Гайто Газданов - Вечер у Клэр. Полет. Ночные дороги [сборник litres]
- Название:Вечер у Клэр. Полет. Ночные дороги [сборник litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «РИПОЛ»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-08474-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гайто Газданов - Вечер у Клэр. Полет. Ночные дороги [сборник litres] краткое содержание
Вечер у Клэр. Полет. Ночные дороги [сборник litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Она говорила мне «ты», я продолжал говорить ей «вы», у меня не поворачивался язык ответить так же, она была вдвое старше меня.
– Это ничего не доказывает, – сказал я. – Но скажите мне, пожалуйста, кто был этот Дэдэ?
– Это был один из моих любовников, – сказала она со вздохом. Она сказала «amant de coeur» [102] «Любовник для души», т. е. который не платит ( фр .).
, это непереводимо на русский язык.
– Это очень лестно, – сказал я, не удержав улыбки, – но это был не я.
У нее на глазах стояли слезы, она дрожала от холода. Потом она обратилась ко мне с предложением последовать за ней, мне стало ее жаль, я отрицательно покачал головой.
– У меня не было ни одного клиента сегодня, – сказала она, – я замерзла, я не могла даже выпить кофе.
На углу светилось одинокое кафе. Я предложил ей заплатить за то, что она выпьет и съест.
– И ты ничего от меня не потребуешь?
Я поспешил сказать, что нет, я решительно ничего не потребую от нее.
– Я начинаю верить, что ты действительно русский, – сказала она. – Но ты меня не узнаешь?
– Нет, – ответил я, – я никогда вас не видел.
– Меня зовут Жанна Ральди, – сказала она.
Я тщетно напрягал свою память, но ничего не мог найти.
– Это имя мне ничего не говорит, – сказал я.
Она спросила, сколько мне лет, я ответил.
– Да, – сказала она задумчиво, – может быть, ты прав, твое поколение меня уже не знало. Ты никогда не слышал обо мне? Я была любовницей герцога Орлеанского и короля Греции, я была в Испании, Америке, Англии и России, у меня был замок в Виль д’Аврэ, двадцать миллионов франков и дом на rue Rennequin.
И только когда она сказала – rue Rennequin, – я сразу вспомнил все. Я очень, хорошо знал название этой улицы, я впервые услышал его еще в России, много лет тому назад. Я сразу увидел перед собой глухую станцию, запасные пути, занесенные рельсы, трупы лошадей, из которых собаки с крякающим звуком вырывали внутренности, скудный свет железнодорожных фонарей, в котором вился и сыпался мелкий снег – в морозном и единственном в мире воздухе моей родины. В те времена – это был последний год Гражданской войны – вечерами в наш вагон приходил пожилой штатский человек, князь Нербатов, любивший, по его словам, молодежь и долго рассказывавший нам о Париже. Он был стар, беден и несчастен, на нем было заношенное платье, и от него всегда шел точно легкий запах падали. Я вспомнил его слезящиеся от мороза маленькие глаза, густую седую щетину и красноватые руки, которые дрожали, когда он брал папиросу и подносил к ней танцующий в его пальцах огонек спички. Мы кормили его, давали ему деньги и слушали его рассказы. Этот человек всю свою жизнь посвятил женщинам; он провел долгие годы в Париже, интересовался искусством, любил хорошие книги, хорошие сигары, хорошие обеды; театры, скачки, премьеры, ложи, цветы – это всегда фигурировало в его воспоминаниях. Он был по-своему неглупый человек, понимавший, в частности, то, что он называл «женской пронзительностью», но испорченный той видимостью культуры, в ценности которой он никогда не сомневался. Он восхищался «Орленком» и «Дамой с камелиями», был недалек от того, чтобы сравнивать Оффенбаха с Шубертом, с удовольствием читал малограмотные светские романы; он не был плох сам по себе, он был жертвой своих денег и не был виноват в том, что никогда в жизни не сталкивался с людьми, в представлении которых культура не носила того опереточного характера, который он невольно придавал ей.
Он был русским boulevardier [103] Завсегдатаем Больших бульваров ( фр .).
давнишнего Парижа, Парижа начала столетия; но главным теперь было то, что в те времена дни его были сочтены; у него был туберкулез, он тяжело кашлял, задыхался и багровел, не мог сказать во время этих припадков ни слова, и в покрывавшихся слезами его глазах в эти минуты было совершенное отчаяние. Помимо туберкулеза он был болен цингой – словом, он почти умирал на наших глазах – не физически, так как особенно резкого ухудшения его здоровья не происходило, а во времени; было ясно, что если мы могли говорить о том, что будет через пять лет, то в его устах такая речь была бы бессмысленна, – и он это знал так же хорошо, как и мы. Он оживлялся после водки и обычно тогда начинал свои рассказы. Но о чем бы он ни говорил, он всегда возвращался к своим любовным воспоминаниям и в конце вечера всегда сбивался на единственную тему, которая, по-видимому, потрясла его навсегда; и если случалось, что он особенно много выпил, он начинал плакать, вспоминая об этом. Это был рассказ о женщине, имени которой я не помнил и которая жила в Париже на улице Ренекэн. У него с ней был длинный роман, и он сообщал, без тени стыда, неприличнейшие и подробные его обстоятельства и нередко горько плакал, вспоминая именно эти нецензурные детали. Женщина, которую он описывал, казалась бы совершенной богиней, если бы не было этих подробностей, и обладала, по его словам, и необыкновенной, непобедимой очаровательностью, и исключительным умом и вкусом, и вообще всеми решительно достоинствами, за исключением добродетели. Я вспомнил, что он рассказывал о ее карьере – и именно о герцоге Орлеанском, короле, банкирах, министрах, этих ее «мимолетных капризах», как он говорил; он очень любил эти выражения, и было удивительно, что личные его – нередко подлинные – несчастья и переживания укладывались именно в такие невыразительные и ничему живому не соответствующие слова; но он был весь проникнут этой словесной дребеденью; он так же говорил по-французски – на том старомодном и смешном языке, который был характерен для начала столетия. И все же, несмотря на явную пристрастность и преувеличенность его описаний, у нас тогда не возникало сомнений, что это была действительно замечательная женщина; и может быть, этому впечатлению способствовало еще и то, что была лютая зима, Гражданская война, глубокая глушь ледяной России, и та далекая и блестящая в его наивном представлении жизнь в Париже, которой мы никогда не знали, вдруг приобретала и для нас соблазнительность призрачного и невозможного великолепия. Мы расстались с князем, потому что нас спешно перебрасывали на другое место, и я успел зайти к нему попрощаться в маленький и грязный домишко, где он жил; он лежал на кровати, задыхаясь от кашля, в комнате стоял тяжелый запах, окна были заперты, топилась докрасна раскаленная печь. Я принес ему на прощание мешок угля, водку и консервы, пожал его дрожащую, горячую руку – он был совсем плох, – пожелал выздоровления; он прохрипел в ответ: «Умирать остаюсь, прощайте», – и я ушел с тяжелым сердцем. Я никогда потом не возвращался в эти места России и никогда не видел ни одного человека, который мог бы мне сказать, как и когда умер князь, потому что в том, что он умер вскоре после нашего отъезда, не могло быть никаких сомнений. Но воспоминание о нем навсегда было связано у меня с тем опереточным и вздорным миром, который он так любил наивной своей душой и рассказ о котором не вызывал бы ничего, кроме невольного презрения и насмешки, если бы он весь не находился в тени трагического и неприличного силуэта этой женщины.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Гайто Газданов - Вечер у Клэр. Полет. Ночные дороги [сборник litres]](/books/1067055/gajto-gazdanov-vecher-u-kler-polet-nochnye-dorogi.webp)

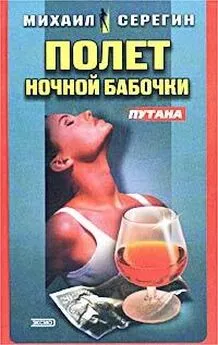
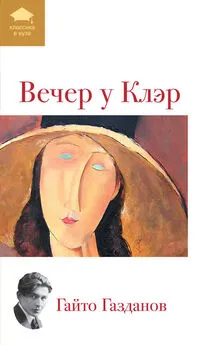

![Пэт Кэдиган - Ночные видения [сборник litres]](/books/1068047/pet-kedigan-nochnye-videniya-sbornik-litres.webp)
![Стивен Кинг - Ночная смена [сборник; litres]](/books/1101551/stiven-king-nochnaya-smena-sbornik-litres.webp)
![Кассандра Клэр - Потерянная Белая книга [сборник litres]](/books/1149884/kassandra-kler-poteryannaya-belaya-kniga-sbornik-lit.webp)