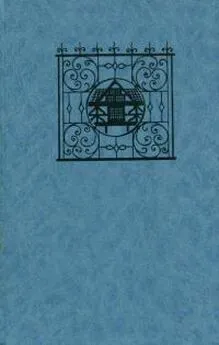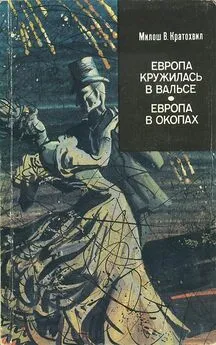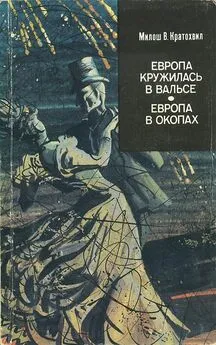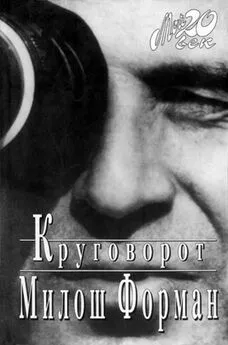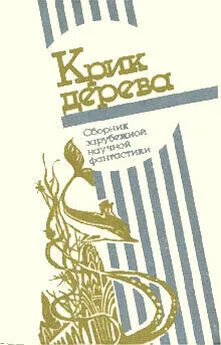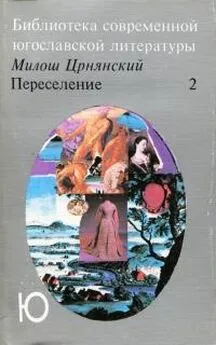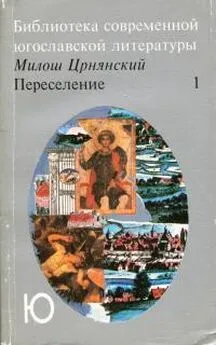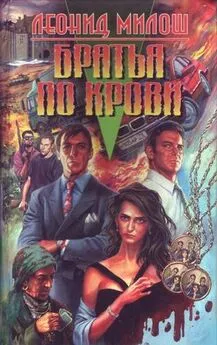Милош Црнянский - Роман о Лондоне
- Название:Роман о Лондоне
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-280-01843-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Милош Црнянский - Роман о Лондоне краткое содержание
Роман о Лондоне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Роман живет контроверзой: спором, борьбой, противоположностью интересов, контрастами желаемого и осуществимого» [1] Грифцов Б. А. Теория романа. М., 1927, с. 147.
, — писал видный историк и теоретик романа Борис Грифцов, отграничивая эпический мир и эпическое восприятие жизни от романного ее восприятия. И чего-чего, а споров, борьбы и противоположности интересов у Црнянского предостаточно. Да, вполне понятно, отчего у Црнянского обозначение жанра даже в заголовок выносится: «Роман о …» Сам писатель мыслит форсированно романно: он поставил героя на рубеже, на перекрестке социальных и национальных миров, предоставив нам судить о его правоте, о его заблуждениях и о страшном, греховном поступке, коим завершает он свои странствия. И над каждым существенным сюжетным эпизодом он поставил специфический именно для романа, для романа как жанра вопросительный знак. «Что привело его в этот подвал? Судьба? Деникин? Революция? Бог?» — раздается закадровый голос, размышляющий о путях и о силах, ведших князя в подвал обувной изысканной лавки. Впрочем, в равной степени голос этот принадлежит и герою романа: голоса сливаются, переплетаются, вторят один другому, создавая особую духовную атмосферу романа, атмосферу постоянного вопрошения.
Сам герой начинает мыслить романно: контроверзами, вопрошениями. Уволили, положим, его из лавки — он ни слова не сказал об этом жене. «Почему же он не рассказал ей об этом? Об увольнении. Почему в последнее время скрывает от нее все тяжелое, горькое?» И ответ-то вроде бы ясен, сам собою напрашивается: не хотел волновать, огорчать жену, оттого-то и не рассказал. Тут и спрашивать нечего. Но роман как жанр немыслим без вопрошений, а роман Црнянского тем более немыслим без них, потому что за житейским, обыденным здесь всегда стоит что-то высшее: ожидание новых поворотов судьбы, прогнозирование, предугадывание. Все житейское плотно насыщено трансцендентным; и крушение эпического мира героя, столкновение его с романной стихией прорисовывается как нечто чрезвычайно типическое, как симптом огромной социальной трагедии; быть эпическим героем по рождению, призванию, по складу ума и характера, но быть втиснутым в неясный, стесненный, неуравновешенный мир романа не так-то легко: можно ли представить себе Илью Муромца среди героев, допустим, одного из романов Достоевского? Что он делал бы там? Как он себя почувствовал бы? Но у Достоевского все же кругом родные были бы люди, звучала бы русская речь. А что делать Илье Муромцу в Лондоне? Среди диккенсовских персонажей? А Репнин — прямой духовный наследник русского эпического начала. И приходится ему адаптироваться к чужедальней сторонушке. А отсюда — особенное значение в романе Црнянского портретных характеристик.
Бытовая мелочь всего лишь: упросила жена, и герой романа сбрил бороду. «Он… заметил, что выглядит лет на десять моложе, чем на самом деле, и в этом для него было что-то страшное и смешное. Не стало больше бородатого Репнина, которого он видел в зеркале двадцать шесть лет. Появился другой человек». И тут же: он «никак не мог понять: почему Надя потребовала это от него? Зачем он сбросил свою бороду, словно маску? Чтобы выглядеть моложе? Чтобы она могла поставить крест на каком-то их прошлом?» И шагает герой по улицам и проулкам Лондона, путешествует в пригородных поездах и в метро, бедствует, обивает пороги биржи труда в окружении стаи вопросов: «Что? Зачем? Почему?» И вопросы эти никогда не кажутся нам надуманными, ибо каждый из них помогает выявить существенность происходящего с князем. Сбрил, положим, он бороду: сделал подарок жене. Но это же — и история; и реформы Петра Великого почему-то запечатлелись в ней всего прежде… повальным бритьем бород. Но недаром они запечатлелись именно так: в XVIII столетии, в самом начале его, Россия прощалась с эпосом как с формой организации общественной жизни, со всеобщим жизненным стилем. А эпический герой, он, конечно же, прежде всего бородат, бородат в знак того, что он привержен земле, соприроден ей. И опять-таки немыслимо представить себе Илью Муромца выходящим из парикмахерской, свежеобритым, точно так же, как нельзя представить себе его разъезжающим на коне по улицам Лондона, хотя в древнем Киеве и он сам, и конь его были бы совершенно уместны. Безбородый Репнин — уже не эпический Репнин; из раздольного, укорененного в истории и величавого мира он ввергается в суетный, полный недоумений, недомолвок, политических интриг и бытовых неурядиц мир романа. В этом мире ему и судьба погибнуть. И погибнет он чисто романной смертью: изощренным, продуманным способом он покончит с собой — так, чтобы исчезнуть начисто, напрочь, не оставив следа и оставшись неуловимым даже для всезнающей и всепроникающей полиции Лондона. Уничтожая свой дух — потому что самоубийство всего прежде есть посягательство на уничтожение духа, — неприкаянный князь принимает все меры к тому, чтобы с глаз людских однажды и навсегда ушло, скрывшись в морской глубине, его множество бед претерпевшее тело.
И опять: дух и тело…
Город Лондон в романе Црнянского выступает как поприще, на котором славянство все же как бы то ни было пытается осуществить свою миссию: объединившись, соединив разнородные племена и нации, вдохнуть в комфортабельную индустриальную жизнь европейцев душу живу, претворив подвиг Бога в завет для себя. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Бытие, 2, 9). Разумеется, в реальности современного мира осуществление этого завета, миссии этой выглядит всего лишь как отдельные всплески героизма, притом же героизма кустарного. Но они все же есть: русского князя прибивает к полякам, мужественно сражавшимся во время войны на стороне англичан: во время войны, естественно, духовная помощь славянства Западу реализовала себя именно в этом виде, в виде военной помощи, помощи кровной. Впрочем, мало сказать, что Западу была оказана помощь: всю тяжесть войны первыми приняли на себя славяне. И в знак признательности полякам англичане дарят им ряд привилегий, а поляки в хорошем смысле слова хитрят: они вводят в свой круг и оказавшихся здесь же, поблизости братьев славян, пригревают они и русского князя. Друг-поляк поддерживает князя до последних дней его жизни: бытовая помощь, разрешение пользоваться квартирой поляка на то время, в течение которого он пробудет в Варшаве, оборачивается и актом глубокой духовности. В основном же в романе нет каких-то определенных действий, акций, каждая из которых свидетельствовала бы о готовности славян к реальному сплочению, к контактам с Западом, а тем более о готовности их к исполнению возложенной на них провидением миссии. Не до миссии им, беднягам! Им работу бы себе подыскать, устроиться бы, попытавшись адаптироваться к условиям, чуждым для них, непрактичны они, часто просто беспомощны — недостаток, отмеченный всеми, кто сталкивался с психологией эмиграции, особенно русской.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: