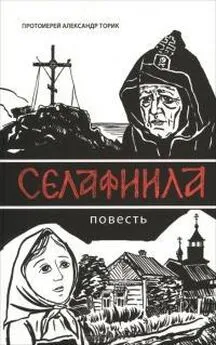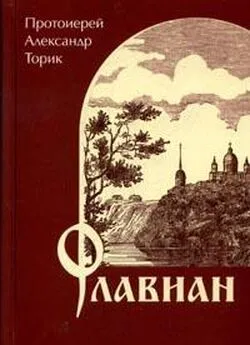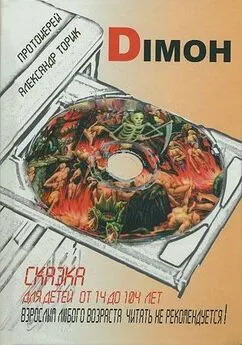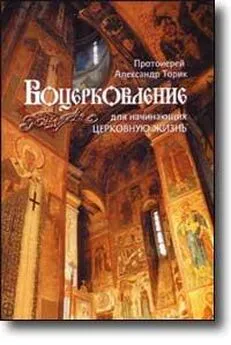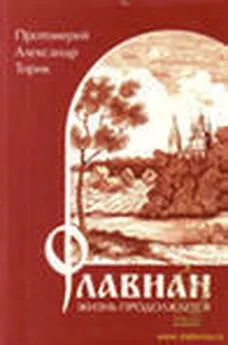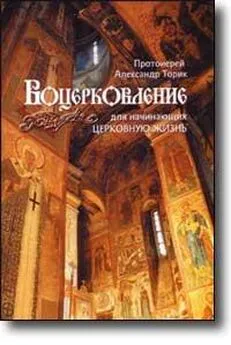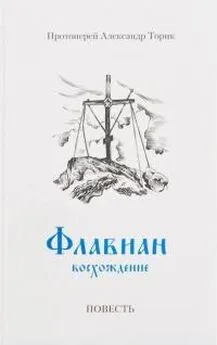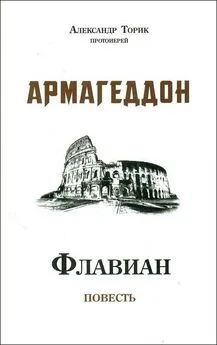Александр Торик - Селафиила
- Название:Селафиила
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:www.pravoslavnaya-proza.ru
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Торик - Селафиила краткое содержание
Селафиила - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Проси, и дано тебе будет. Без Божьей помощи и укрепления, стяжаемых через усердную молитву, ещё никто хорошим настоятелем не становился, — наставляла наедине отца Максима старая схимонахиня, почитаемая им как духовная мать.
— Раз Господь тебя над братией пастырем поставил, значит, видит, что ты можешь быть пастырем добрым, а не наемником. А раз можешь, значит — должен! Не забывай, как Христос ученикам ноги мыл и то, что не братия — твои холопы, а ты — им слуга!
Главное в руководстве братией — пример.
Сергий Радонежский да Афанасий Афонский, Антоний Великий да Нил Столобенский, равно как и большинство святых игуменов не богословствованием, а личным подвигом да любовью обильною к себе множество учеников и последователей привлекали. И главный пример игумена в общежительной обители должен быть в его отношении к божественной службе церковной.
Первый после пономаря в храм приходи и служащему в череду иеромонаху на служение благословение преподай. Сам всегда шестопсалмие читай, да канонами на утрене не брезгуй, в них весь смысл и поучение дневной службы, пусть их братия от твоих уст воспринимает.
Братские молебны и сходы всегда сам возглавляй, на регентов не скидывай: братии важно видеть что «кормчий корабля у руля стоит», а не в игуменской келье чайком услаждается. Не будь, как иные, что словно «ясно солнышко» к полиелею выкатываются, а после славословия уплывают! Таким Господь не благоволит!
Василий, вон, Царствия ему Небесного, настоятель Грушицкого монастыря, именно так и ходил на всенощные, даже под праздники Господские да Богородичны — от полиелея до славословия — ему, мол, по слабости желудка поранее откушать полагалось! Помер нехорошо, в нужнике, какой-то сосуд в голове лопнул, видать — тужился сильно…
Послушаний непосильных на насельников не возлагай, послушание должно помогать молитве, а не мешать ей! Послушание без молитвы — каторга! И никому такая каторга духовной пользы не приносила, один вред. Когда монах еле живой с послушания доползает до кельи, а тут ещё и келейное правило совершать надо — будет он его совершать с радостью и плодотворно?
Напротив, к молитве, как к ещё одной каторге относиться начнёт! И всё! И нет монаха-молитвенника! Вот бесам-то радость!
А то ведь любят у нас в монастырях талдычить — «послушание паче поста и молитвы!» Так ведь только послушание в любви плод приносит, послушание любящего чада Отцу Небесному!
Отцу! А не надсмотрщику с кнутом!
А никакой любящий отец своё чадо упахивать «вусмерть» не будет, того даже хороший крестьянин со своей скотиной не делает — бережёт!
И ты, отец настоятель, братий своих береги — тебе за них ответ Богу давать!
Да и приезжающих паломников не перетруждай, они к тебе не в трудовой исправительный лагерь приехали! Давай отдохнуть, на службах с братией помолиться, духом монашеской молитвы напитаться — они за этим к тебе сюда и едут, за молитвенным духом, которого у себя в приходах в такой полноте, как в монастыре, получить не могут. Оттого и едут в монастыри.
А тут их, дармовую рабочую силу-то, сразу с порога: «послушание паче поста и молитвы!» — как обухом — хлоп! И давай вместо службы на стройки да на огороды! Этак-то они и у себя на дачных участках «напослушаются»!
Пусть потрудятся во славу Божью, пусть поток прольют! Но только в меру, не в ущерб молитве! Таскание кирпичей и копание грядок само по себе благодати Божьей не даёт, только соединённое с молитвой! А с молитвой и любой труд будет в радость, тем более в святом месте! Ставь себя на их место почаще, и в прямом смысле тоже, с лопаткой на грядке!
Сам все послушания освой да своим хребтом познай. Тогда лучше будешь людей понимать и их возможности да потребности телесные и душевные тоже.
Относись к ним по-евангельски: как ты к себе хотел бы! Вот и станешь тогда добрым пастырем и хорошим игуменом!
Отец Максим умел и хотел слушать, и слова старицы глубоко западали в душу молодого настоятеля. Понимая, что в лице опытной в монашеском делании схимницы он имеет редкого для своего времени наставника, он ценил каждое слово, каждое наставление, полученное от неё, хотя далёко не всё понимал сразу. Тем более что нередко мать Селафиила говорила ему что-либо образно или и вовсе непонятно.
Однако за то небольшое время, что им довелось жить вместе под кровом обители, отец Максим уже успел убедиться, что старица не произносит зря ни единого слова и что, порой, сказанная ею пословица или шутка через какое-то время оказывалась пророческим предупреждением или важной подсказкой.
Мать Селафиила радовалась, видя как насаждаемые ею в настоятельской душе семена монастырского опыта, приживаются, возрастают и рождают духовные плоды. Она вспоминала своих духовных наставников, монахов и священников, старцев и схимонахинь, всех, кого Всемилостивый Пастырь душ человеческих посылал ей в своё время для руководства и обучения премудростям монашеской жизни.
— Помяни, Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего иеромонаха Лаврентия, воздаждь ему сторицею за его любовь ко всем людям Твоим, а наипаче к нам, монашкам окаянным! — крестилась она с умилением, вспоминая своего первого духовного отца.
Отец Лаврентий с незапамятных времён был духовником обители, где подвизалась Машенькина крёстная и где зародилась в сердце девочки горячая любовь к «житию постническому».
Когда-то, во второй половине девятнадцатого века, будучи отправлен Преосвященным Владыкой в женский монастырь в качестве духовника в наказание за слабость к винному питию, уже немолодой священник вдруг совершенно переменился духом, словно проснулся, увидев бедственное положение сестёр-монахинь пребывающих в полном духовном сиротстве.
Служившие в обители в чреду «белые» — женатые — батюшки, сердцами и утробами прилепленные к своим приходам и семьям, честно, по-наемнически, служили литургии да всенощные, вечерни да молебны с акафистами. Но даже исповеди сестёр выслушивали в «пол-уха», нетерпеливо теребя конец епитрахилия, торопливо возлагаемый на очередную главу в апостольнике со скороговоркой: «… и аз, недостойный… прощаю и разрешаю».
— Я, милые, в этих ваших монашеских делах не силён, — словно сговорившись, отвечали на все вопросы сестёр приходские батюшки. — Я здесь прислан Владыкой литургисать да требничать! А по духовным потребностям у вас игумения есть, старицы вон в схимах… Их и спрашивайте!
А что игумения? Той бы и самой от кого назидание получить, хоть уж не первый десяток лет с крестом ходит! Заботы настоятельские немного времени оставляют для стяжания богатства духовного, когда на твоих женских плечах почти триста сестёр, которых и прокормить, и обшить, и мало ли ещё чем обеспечить надо! А схимницы хоть и молитвенны, да просты и, по смиренной своей простоте, безгласны…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: