Александр Аннин - Бабушка
- Название:Бабушка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Strelbytskyy Multimedia Publishing
- Год:2017
- Город:Киев
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Аннин - Бабушка краткое содержание
Бабушка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тогда тоже, помнится, было лето, вроде бы — воскресенье, я все примеривался к папиным брюкам и с горечью понимал, что до его бокового кармана мне еще расти и расти… Мы, кажется, шли ближе к вечеру в гости или — из гостей, попали под сильный дождь, забежали в кассы клуба спрятаться от ливня. И мама весело предложила пойти на фильм, благо народу возле касс не было. Это было в ее характере: вот так вот просто, без предварительного обсуждения, взять и пойти в кино! Восторг. Я не помню, о чем была картина, но помню, как мы вышли из клуба. Еще было светло. Жуткий грохот и лязг металла, оглушительный треск мощных моторов обрушились на нас. По главной улице Советской нескончаемой колонной шли танки, обдавая нас удушливыми, смрадными выхлопами. Они все шли и шли в сторону заката, и папа больно стискивал мою ладошку. Лицо его стало серым и неподвижным.
— Война, Таня, — сказал он маме.
Мы никак не могли перейти дорогу, все ждали, а танки все не кончались. Какой-то старик рядом с нами прокричал танкисту, возвышавшемуся над люком башни:
— Сынок, вы куда? Куда вы?
— Не знаем, — весело отвечал танкист.
Долго потом асфальт на Советской улице так и лежал с отпечатками гусениц. Позже я узнал, что танки шли в Чехословакию. То был август 1968-го. А может, эти танки шли не в саму Чехословакию, а просто поближе к западным границам, на всякий случай…
Теперь, когда папа, мама и Катя уехали от нас поближе к Москве, мы с бабушкой ходить в баню перестали совсем. Скучно там, неинтересно. Вместо бани мы по субботам, как вернется бабушка со всенощной, наладились ходить «к нашим», то есть к бабушкиным племянницам — одинокой тете Ларисе и ее сестре, тете Нине с мужем, дядей Васей, они жили неподалеку от Нечаевской церкви. Мы там мылись в настоящей ванне, а не в галдящей и громыхающей тазами людной бане с ее неистребимыми запахами стирального мыла и мокрого белья: всякая баба непременно устраивала постирушки в общем зале, причем набирала сразу несколько железных оцинкованных тазиков для замочки, так что тазика свободного приходилось дожидаться терпеливо и долго.
Помню, день накануне долгожданного похода «к нашим» бабушка называла «пятница-заплатница».
— Почему заплатница, бабушка? — спрашивал я.
— Ну а как же, Санёга? Ведь суббота — банный день, значит, в бане стирать белье нательное будут. Надо перед этим все дырки зашить, заплаты поставить, а то во время стирки дыры еще сильнее разойдутся. Вот и прозвали пятницу — заплатница.
Бабушка добавляла зачем-то:
— А уж в воскресенье во всем чистом да заплатанном в церковь шли, вот так-то, Санёга.
В субботу, по дороге к «нашим», в самом конце Курлы-Мурлы, мы выходили на огромную, пугающую меня своей безжизненной пустотой площадь. На дальней стороне ее, между крон гигантских ветел, виднелись кирпичные, с островерхими башенками и чеканными флюгерами, очертания авиационного училища. Слева, на бугорке — каменный магазин царской постройки, лабаз бывший, он так и назывался в народе — «Бугорок», там шоферы в стороне от глаз людских покупали вино. А на том конце площади, где начинались городские «зады» с бесчисленными улочками, застроенными деревянными избами, уходил в сторону кладбища начинавшийся здесь, по словам бабушки, Владимирский тракт, и улица, косо загибавшая на восход солнышка, так и называлась: Владимирская.
Чуть не посреди площади стояло приземистое, разбитое строение из обсыпавшегося кирпича, без окон и дверей, вместо них зияли проемы. Мне иногда бывало невтерпеж, и мы шли туда с бабушкой, ведь там были устроены женский и мужской туалеты — в каменном полу просто пробили дыры в подвал. Бабушка говорила, что при царе здесь, на площади, была часовня Николая Угодника, куда каждый перед въездом или выездом из города по Владимирскому тракту мог зайти помолиться на путь-дорожку. А теперь заходят «по большому» да «по малому».
А, может, она говорила, что часовню Николая Угодника с чудотворной путевой иконой сломали «партейные», а потом из этих обломков, из кирпича то есть, построили общественный туалет. Ведь рядом с площадью, под стенами монастыря, было старое кладбище, а на самой площади устраивали до войны гулянья и ярмарки, а потом, раз в году — сожжение чучела Масленицы-Зимы. В общем, нужен тут был туалет.
Я, шестилетний, думал тогда, что часовня — это всего-навсего помещение для часовых, и у меня рассказ бабушки никаких печальных чувств не вызывал. Подумаешь, караулку в туалет переделали. У них, поди, у солдат-то, всегда был там туалет.
Много церквей разрушили в Егорьевске, особенно часто и горестно тужила бабушка о Белом соборе на площади.
— В тридцать пятом-то годе, перед самой Пасхой, решили взорвать Белый собор, и только-только народ на зачин прошел, в шесть утра, тут ка-ак ухнет! Все сотряслось, даже фабрика наша, во как, Санёга. Как будто душу из Егорьевска вытрясти хотели.
— Кто, бабушка?
— Как это кто? Власти наши партейные.
— А вы бы сказали им, чтобы они не взрывали.
— Да как скажешь-то? Кто нас будет слушать? А?
— Но ведь жалко людям было…
— Жалко у пчелки, Сашик. Чего его жалеть-то, этот Белый собор, коли уж власть так решила. Это не нашего ума дело.
А потом и Красный собор загорелся, деревянный, во имя Георгия Победоносца — в честь него и город назван был когда-то. Люди кинулись было с ведрами тушить, ан глядь — вокруг собора энкавэдэшники стоят, не пускают народ с ведрами: «Нельзя!» Тут и смекнули городские умники, что, значит, пожар-то — их рук дело, энкавэдэшников, а народу объявить хотят, что сам по себе собор сгорел.
Так ведь и объявили.
— Зинка-то Прищепчик, секретарь наш партейный, на Газыриху похожа была, — говорила бабушка. — С папироской, в кожаной куртке, сама накрашенная вся. Как мужик, за рулем ездила в машине своей. А в тридцать седьмом ее — цап-царап! Враг народа. В энкавэдэ и спрашивают: кто, мол, такой у вас, Зинаида Антоновна, во время гражданской войны вашим хахалем был, а? Ей и крыть нечем. Знамо дело, расстрел. Только она дожидаться не стала, удавилась в тюрьме. С ума, знать, сошла. Иудина смерть, вот так-то, Санёга, церкву-то разрушать.
— А кто у нее хахаль был, бабушка?
— Офицер, Саша. За царя он был, против советской власти. А она — еврейка была. Потому и не женился он на ней, так просто жили.
Я не спрашивал до поры, почему нельзя жениться на еврейке… И вообще: кто это такая — еврейка, евреи? Бабушка говорила эти слова с таким видом, будто они были запретные. А кто такой хахаль, мне спрашивать было не нужно, про то знали все мальчики и девочки. Это приходящий мужик. И уходящий, стало быть.
И собор Александра Невского, и Нечаевскую церковь, и храм для староверов, где во времена моего детства и юности был Дом пионеров, построил на рубеже эпох городской голова Никифор Михайлович Бардыгин, второй по значимости капиталист-фабрикант в Егорьевске — после братьев Хлудовых, конечно. А еще были Князевы, Лаптевы, Хреновы, Брёховы, егорьевские Рязановы — все они «миллионщики», первой гильдии купцы. Бабушка нет-нет да и вспоминала эти имена в своих рассказах о старинной жизни. И вот я призадумывался порой, однако ж никому о своих соображениях не говорил: а ну как наши с бабушкой соседи, Хреновы, Князевы да Лаптевы — какие-то осколки, отголоски тех знатных купеческих родов Егорьевска? Иначе откуда у них такие фамилии? Город-то маленький совсем, уж всяко родственники какие-то все тутошние люди с одинаковыми, но заковыристыми фамилиями. Ну, которые не Ивановы и не Петровы…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
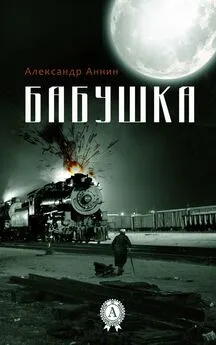
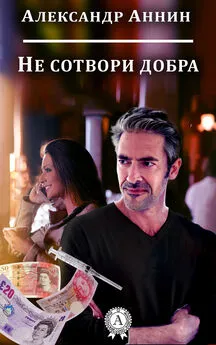
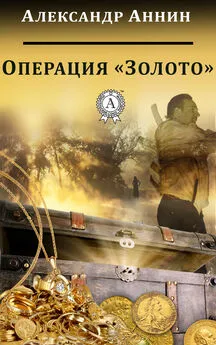
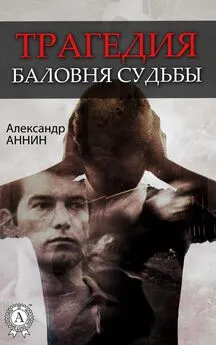
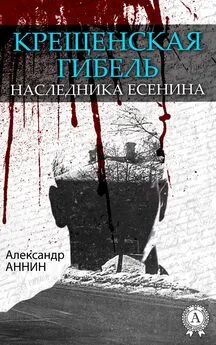
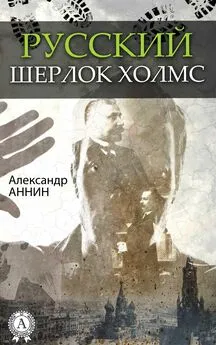
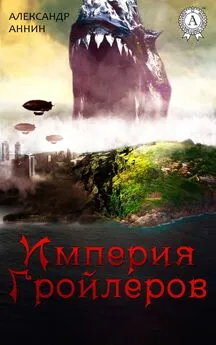
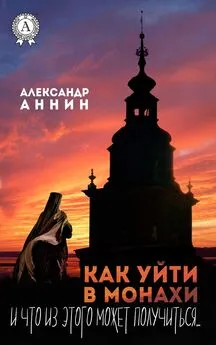
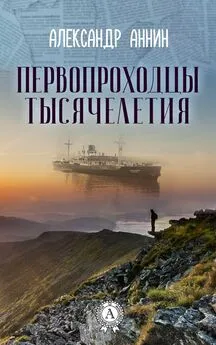
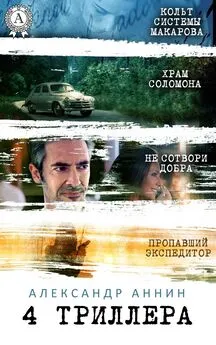
![Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/1094470/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant.webp)