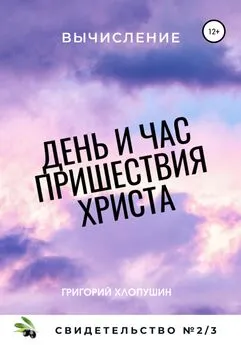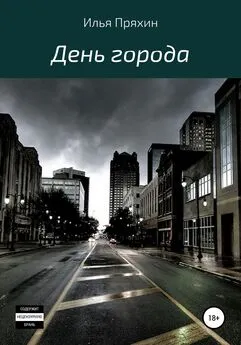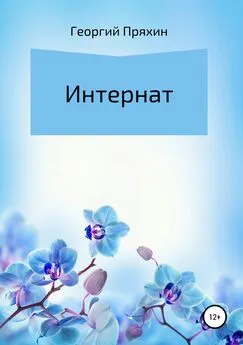Георгий Пряхин - День и час
- Название:День и час
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00616-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Пряхин - День и час краткое содержание
День и час - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И не столь уж плоха была керосиновая лампа. Почему-то больше помню даже не вечера, а утренние часы в доме. Наверное, потому что по вечерам ложились рано, а утром мать поднималась чуть свет, и я вставал вслед за нею. Взял моду учить уроки по утрам. Она растапливала «грубку» — так в селе называли печь, — управлялась по хозяйству. В настывшем за ночь доме волнами прибывало тепло, я сидел за начисто выскобленным дощатым столом под золотисто-спелым — с него как будто кожицу содрали, и он светился самим нутром, само́й нежной абрикосовой мякотью — фонарем семилинейной керосиновой лампы, стоявшей тут же, на щелявом столе. Холка сугроба рафинадно светилась в черном окне. Управившись по двору, со скотиной, мать окончательно перемещалась в хату. Вымыв руки, подсаживалась ко мне. Лепила вареники, пельмени. Просила:
— А ты почитай вслух. И я между делом послушаю.
Мать была неграмотной, и я знал, что она не хитрит, не проверяет меня — я и так учился неплохо, — что ей и впрямь интересно. И читал вполголоса, чтобы не потревожить братьев, сладко сопевших где-то за пределами дрожавшего в центре хаты светлого круга, сияющего спицами обода — там, в теплой, домовитой темноте.
Где-то там, в темноте, оставался и отчим — в те редкие дни, когда он вообще бывал дома. И я в те минуты как никогда остро и счастливо чувствовал, что, заключенные в золотое колечко света, мы с матерью составляем в этом мире одно неделимое целое. Она — моя. И я — ее.
Может, поэтому и вставал вслед за нею до света — пока окружающая жизнь докучно и властно не посягала на нее.
Так и вплывали мы с нею в утро, ведомые керосиновой лампой, как бакеном, покачивающимся на развидняющихся глубинах наступающего дня.
Будучи здоровой, мать тоже не сетовала на отдаленность нашего дома от жизни села. С отчимом у них нередко случались нелады, ибо, напиваясь — а напивался он таки часто, — он как бы вновь впадал в контузию, полученную на войне: скандалил, ревел благим матом, крушил все налево и направо. В общем, лучше жить подальше от чужих глаз.
Вообще-то она не состояла с ним в зарегистрированном браке. Так, приняла невесть откуда появившегося в селе — прямо с войны — в пятьдесят первом кочевого сапожника — вот и вся регистрация. Катился-катился, как и перекати-поле, пока не зацепился нечаянно за наш на семи ветрах господствовавший дом. Зацепился, но довольно часто исчезал, отбывая на лесоповал за неуплату налогов или алиментов — какие алименты с перекати-поля! — другим, законным женам, которых у него, оказывается, и до войны и после войны было немалое количество. Однажды в нашем доме даже появилась юная, совершенно нездешняя девушка. Таких «нетутошних» в нашем селе не было и быть не могло — это я знал абсолютно точно! И в гербарии сегодняшней памяти она осталась так, как остается у человека чей-то взгляд: ничего вещественного, а вместе с тем помнится, не стирается. Не одежда, не выражение лица, а ощущение д е в и ч е с т в а, той нечаянной весенней свежести, которая как бы озонирует все вокруг себя и от которой в груди у тебя поднимается холодок, — вот что осталось.
Пришло, появилось в нашем дворе — я-то заметил ее давно, но никак не смел предположить, что э т о движется в наш двор. Думал, чиркнет по небосводу и — растает. И потому следил за ее приближением, разинув рот и не в состоянии вымолвить слова: мол, смотри, мам, кто к нам идет. Подошло к возившейся по двору матери, поздоровалось — мать изумленно, даже с некоторым испугом смотрела, разогнувшись, на гостью, — сказала:
— Меня зовут Света. Я — младшая дочь Василия Степановича Колодяжного. Вы позволите мне повстречаться с ним?
Мать застыла как громом пораженная. Потрясенная не столько фактом существования «младшей дочери Василия Степановича», сколько тоном обращения к ней «Вы позволите…» — так ее еще никогда не просили.
У меня же мелькнуло: значит, есть еще и старшая дочка!
— Я его почти не помню. Он ушел на фронт, когда мне было три года. А с фронта он к нам уже почему-то не вернулся, — продолжила, по-своему истолковав материно замешательство.
В этих словах, сказанных просто и грустно, было что-то такое, что позволило моей матери, обычно робкой и нерешительной, обнять девчонку за плечи и повести в дом, приговаривая:
— Ну что ты, доченька, что ты…
И так они пошли, так доверчиво приклонились друг к дружке, что пойти за ними следом я не решился. Так и остался во дворе. Как пень.
Я ведь тоже своего родного отца не помню. Не видел — хотя он и уходил не на войну.
А отчима-то как раз и не было. Находился в очередной отсидке.
Несколько дней горожанка прожила у нас. Ей стелили на моей кровати, а меня спровадили на пол. Тем не менее я был счастлив.
Да и весь наш дом на эти несколько дней как-то посчастливел.
Мать, стараясь угодить гостье, пекла свои знаменитые оладьи. Их знаменитость, а точнее сказать, «знатность» заключалась в том, что испеченные оладьи укладывались высокой горкой в огромную чугунную сковороду, заливались доверху густой — палец не провернешь — атласистой, с медовым отливом (не зря корову Ночку у нас потом, когда матери не стало, не просто купили, а прямо выхватили из рук) сметаной и ставились на некоторое время в русскую печку.
Их еще не вынимали из печи, а весь дом уже и даже половина улицы (то бишь мой закадычный друг, который в такие моменты бывал тут как тут) знали, чувствовали, обоняли, какие замечательные у Насти оладьи!
А вынет их мать, протомившиеся, изошедшие янтарной юшкой, поставит на стол, откинет крышку — надо видеть в ту благословенную минуту и ее, стряпухино, довольство, и наше, едоков, отменное рвение.
— Да вы просто кудесница, тетя Настя! — воскликнула, захлопав в ладоши, горожанка. — Можно я вас расцелую?
Мать аж зарделась от такой похвалы. Вот когда, думаю, и зародилась в ней мысль о девочке, о дочке, о желаннице — она тогда как раз ждала третьего.
А девчонке хоть бы что. Стремительно поднялась, чмокнула мать в правую щеку — та и опомниться не успела, — уселась на место и принялась по-городскому, с вилкой и ножом, накладывать оладьи в тарелку перед моим младшим братом.
Перед ее младшим братом, как считала, наверное, она.
Да я и не против! Господи, я очень даже за: пусть он, сопливый, будет и ее, и мой.
Мне очень бы хотелось иметь такую красивую, такую легкую, такую юную и праздничную сестру. Желание, атавистически сохранившееся до сих пор. Когда сам уже взрослый, лысый человек с многочисленными дочерьми. Всю жизнь хотел иметь старшую сестру, но когда не стало матери, а следом за нею и отчима, сам превратился для братьев не только в старшего брата, но и в старшую сестру. И в брата, и в сестру — во все.
«Я и баба и мужик, я и лошадь, я и бык…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
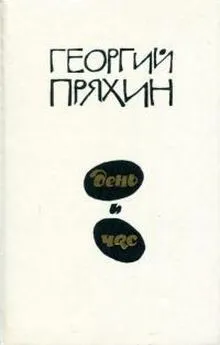

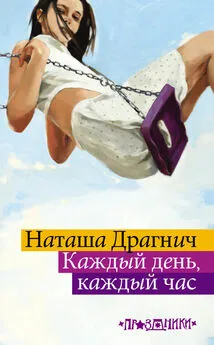
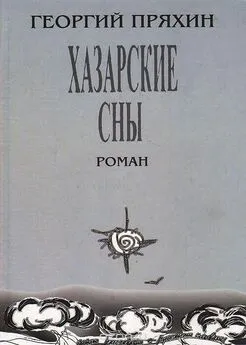
![Георгий Пряхин - Интернат [Повесть]](/books/1099702/georgij-pryahin-internat-povest.webp)