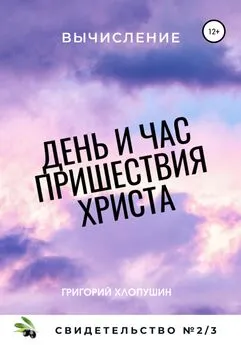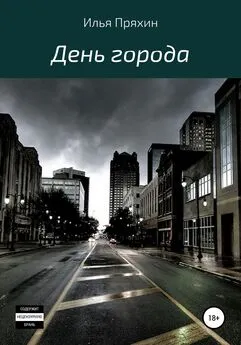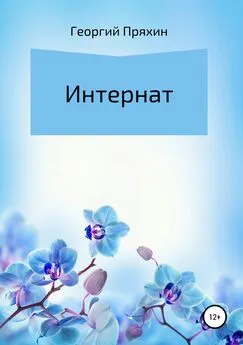Георгий Пряхин - День и час
- Название:День и час
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00616-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Пряхин - День и час краткое содержание
День и час - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Как, как? — переспросили за стенкой.
— Пробочное. Так и будет существовать инертной массой — мешая другим и само ничего путного не производя.
— А вот те, кому двадцать, от силы тридцать, — люди думающие. Бесстрашные. Это — первое поколение ученых-обществоведов, растущее в естественных, я бы сказал, дарвинских условиях. Свободной конкуренции идей, мнений. Растущее в обстановке общественного спроса на смелость, на поиск. А где есть спрос, там будет и предложение. Нет, эти мальчики мне положительно нравятся. В них изначально есть некий бес, нет — бог здорового инакомыслия, без чего философа быть не может. Почка роста нашей социалистической науки — в них.
Человек за стенкой, наверное, показал куда-то рукой. Куда-то мимо меня.
«Пробочное поколение» — стояло в ушах.
Не могу сказать, что отнес обличение и на свой счет. Какой из меня философ! И все-таки. Сидел в купе, вернулся из командировки, занимался потом будничными делами и — лопатками чувствовал окончательность приговора.
Протеста не было. Он предполагает активность действий, что-то яркое, «шум и ярость», по выражению Фолкнера. А тут не то что шума, ярости, тут и возражений-то особых в душе не было. И крыть-то ей нечем: все, в общем-то, так и обстоит на самом деле. (Такая покладистость, она ведь тоже обусловлена все тем же конформизмом. Еще одно свидетельство полного отсутствия здорового инакомыслия.)
Казалось бы, что мне до этого случайного чужого разговора? В одно ухо влетело, в другое вылетело.
Никак не вылетало насчет «пробочного». Застряло.
Ну разве это протест, когда душа где-то там далеко-далеко, самой младенческой частью своей потихонечку — в разноголосице привычных хлопот, команд — тенькает и жалится…
А чего жалится — и сама не знает. Как будто ей отказали в родстве, в котором она и сама-то не уверена: так, седьмая вода на киселе.
И вот тогда-то, в последующих будничных хлопотах и не в ущерб им, а как бы над ними, как возникает в степи никому не мешающее, ничего не затрагивающее, свободно текущее марево, возникла в памяти картина, о которой я хочу рассказать. И которая казалась совершенно забытой, истраченной, зажитой — по аналогии с «заспанной».
Обжигающе-ясно, больно так возникла.
Искала душа аргументы, нащупывая их в той сфере, в которой она, душа, заведомо сильнее разума?
Протестовала — если такую грустную реакцию можно назвать протестом?
Или, напротив, соглашалась? Доводила чужую мысль, чужой приговор до логического корня, до исходного пункта: вот оно, дескать, начало траектории, которая казалась траекторией полета, а на самом деле явилась траекторией падения.
Искала защиты — у детства, как уже не раз бывало?
Картина, как мы с отчимом ломаем хату.
Впрочем, здесь надо сделать еще одно отступление, но теперь уже по совершенно частному поводу.
По поводу глагола «ломаем». Он первым подвернулся под руку, но, употребив его, казалось бы, такой очевидный, погрешил против правды. В те времена — а это было самое начало, самый кончик шестидесятых — в нашем селе уже не говорили «ломать хату».
Говорили: «валять хату».
Глагол — да не тот!
Глагол разрушения, и все же в нем уже появился какой-то вздох, проблеск, отчего он уже стал как бы и глаголом созидания. Уже нет угрюмой бесповоротности, окончательности. Есть лазейка для жизни. Он мягче, в нем толика шутливости, даже какой-то своеобычной удали.
«Валять дурака» — не слышится ли тут что-то сродственное?
Уже хаты валили, валяли для того, чтобы на их месте поставить новые. И подчас не новые хаты, землянки, глинобитные турлучные мазанки (может, отсюда и «валять», ибо ломать по сути было нечего, слишком сильный это глагол для столь утлых, недолговечных сооружений), а настоящие дома. Тоже из самана, но уже облицованные жженым кирпичом, с высокими потолками и двускатными крышами.
Валяй, деревня, — строить будем!
Ломать же — это про другое. Про те р а з в а л и н ы, например, остатки — а иногда это были просто холмы наподобие больших безымянных могил, — которые я еще застал и которые были разбросаны, если можно сказать о пустоте, что она разбросана, там и сям по селу.
Прямо напротив нашего дома, через затравевшую дорогу стояли, доживали свое два обломка некогда мощной глинобитной стены. И по бокам от нашего дома, там, где должна была бы идти, продолжаться улица, возвышались один за другим округло-правильные невысокие холмы. Их основания уже заросли травой, а макушки еще были лысыми. И только по ним, макушкам, видно, что холмы эти — из глины. Что это не степь еще, не земля как таковая, а крестьянские руины, которые легче, быстрее любых других руин становятся степью и землей.
У нас не было соседей ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади. На все четыре стороны — простор, до ближайшей хаты шагать и шагать. Только эти взгорки, многие из которых уже почти и не выделялись над степью — так, припухлость. Село длинное, но домов в нем едва ли не меньше, чем холмов. Дома и могилы домов — вперемешку.
На бледных маковках, как просторные кольца на невидимом пальце, любили нежиться змеи.
Вот эти хаты — л о м а л и. Их ломала рука более скорая и беспощадная, чем человеческая: голод тридцать третьего, военных и первых послевоенных лет.
Но в начале шестидесятых «валять» уже означало строиться.
Валяли землянку, с азартом, с ликованием, и строили — дом. И в валянии, и в строительстве участвовали и соседи, и родня. Мать, когда была здоровой, тоже часто приглашалась на такие «помочи». Все умела делать: и глину месить, и саман штуковать, и мазать. Вальковать — вот еще работка для двужильных. А она такой и была. Ничего лишнего — ни в росте, ни в весе, ни в разговоре. И только жилы — две. Как двойная тетива: мешок зерна, словно заправский мужик, поперек спины несет, а ногу ставит легко, без натуги да еще улыбается молча, радуясь доброй ноше. Сбросит его, распрямится — и никакой остаточной деформации. Как будто и не было его, непосильного, на этих узеньких и таких чутких даже не на ласку, а уже на ласковое слово плечах.
Когда была здоровой.
А на сорок четвертом году тетива беззвучно — так сильно была натянута — оборвалась.
Мать стала желтой тенью матери. Кожа да кости. Обтянутое лицо, враз поредевшие, посеревшие, потерявшие теплый блеск волосы. Были волосы тонкие, рыжеватые, с веселым подсолнечным отливом, в сырую погоду по-девчоночьи курчавившиеся на концах, а стали — жалкий пучочек серой, пыльной амбарной паутины. Руки, доселе не знавшие усталости, все чаще повисали как плети, удивленные собственной немочью. В течение нескольких месяцев ссохлась, как старый, продавленный кокон. Жизнь, влажно блеснув бесплотными крылышками, вылупилась и выпорхнула.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



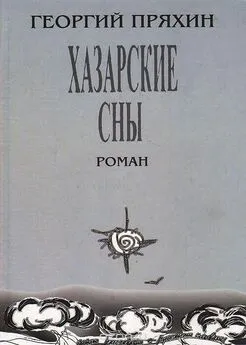
![Георгий Пряхин - Интернат [Повесть]](/books/1099702/georgij-pryahin-internat-povest.webp)