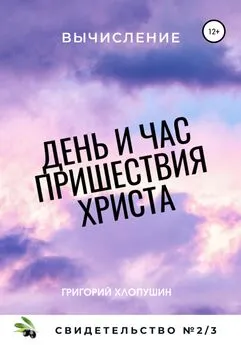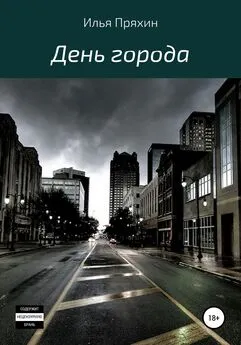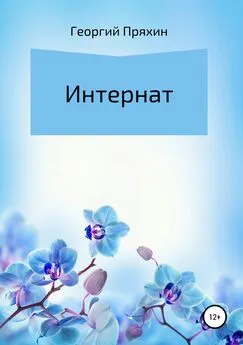Георгий Пряхин - День и час
- Название:День и час
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00616-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Пряхин - День и час краткое содержание
День и час - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Они ведь не были старыми, Не были лысыми. Немощными. Были молодыми и чубатыми. Их выгоревшие рубахи липли к бугристым спинам, и от их колясок по всей вдовьей улице распространялся скипидарно-терпкий запах мужского пота.
Где бы ни находился — у окна, во дворе, на завалинке, — видел эти сведенные кулаки и тяжело набычившуюся голову. Они как на таран шли на наш сельмаг.
Через некоторое время той же дорогой коляска возвращалась назад. С конвульсиями, с остановками, рывками, слепо. Словно раненая. Голова уронена на чудовищные кулаки, пьяная слеза и такая же пьяная песнь:
Взревели моторы,
И он полетел
Чужие бомбить иродромы…
Иногда коляска возвращалась уже в темноте, и тогда слышна была только песня да перезвон бутылок, которые до отказа заполняли коляску и предназначались другим — не только безногим, но и безруким.
Странное дело, но наши сельские, обычно полоумные, собаки на коляски не набрасывались — по причине такого мата, от которого стыла кровь даже в собачьих жилах.
Песня, слезы и мат.
По селу они не шлялись, милостыню не просили, разве что в том же магазине, где тогда продавали и на вынос и распивочно, иной из них подъезжал к деревенским кучковавшимся мужичкам и — за неимением наличных — требовательно задирал стакан.
И те безропотно наливали.
И село в патронат не ломилось. Даже работать в нем охотников не было, хотя платили там рублями, а в колхозе, как тогда выражались, палочками. Уже по душераздирающим крикам, которые доносились иной раз из открытых окон патроната, можно было понять, представить, вообразить, какое зрелище ждало там здорового человека. Что за калеки помещались в нем. Что за бездна раскрывалась сразу за нашим селом. И сосуществовала, притулившись в беспамятстве к нему.
У патроната была своя полуторка. И она иногда проезжала мимо нашего дома — на кладбище.
А одна из наших соседок все же работала там. Ведьма тетя Вера Пащенко. Объяснять, почему «ведьма», — разговор отдельный. Хотя, честно сказать, никаких особых объяснений тому в селе не было. Просто считалось, что лучше не гонять корову мимо ее хаты — сглазит, не скандалить с нею — накличет беду. Да вот еще: Вера, вдова, воспитывавшая сына и дочку, каким-то образом сумела сманить чуть ли не из-под венца мужа у одной нашей молодицы. Ну и был, как водится на Руси, принародный бой стекол, причем коварный муж, выскочивший-таки из Вериной хатки — летом мы вылавливали сусликов в степи, и под экономной струйкой воды, которую мы, мальчишки, таскали за собою в ведре, суслик выскакивал из норки вот так же очумело, панически, напролом, как из полымя, — стоял рядом со своей молодой женой, держась, впрочем, вне пределов ее досягаемости, чего не скажешь о Вериных окнах, и всячески пытался ее урезонить.
Что только подстегивало молодицу.
— Ведьма! Ведьма! — кричала та, растрепанная, зареванная, и что есть мочи колотила палкой по махоньким оконцам махонькой Вериной землянки (последняя и в самом деле была так мала, что совершенно непонятно, где там мог помещаться этот молодой, хорошо кормленный битюг).
Ни Вера, ни ее дети из хатки не вышли.
В каком бы платке она ни была, а волосы у Веры всегда выбивались из-под него, как выбивается из общего аккуратного абриса распущенное, приготовленное к взлету крыло.
Готовность к полету.
Крыло темное, такой интенсивной черноты, что глаз уже сам ищет в ней седую нить, и, судя по всему, еще год-другой, и она явится: стреножит, обротает крыло лихая паутинная сеть.
Крыло темное, и глаза темные. Только другой, мягкой, размытой, пазушной темноты. Скорее, серые. Вроде как крылом взмахнули, и открылось теплое, зольное — и цвет, и пушистая мягкость, теплота только что вынутой, «выгорнутой», как говорят у нас, золы. Подкрылье. То, что обычно закрывают, защищают, берегут пуще глаза. А тут — на, смотри, сколько влезет. За погляд не берем. Вот один и засмотрелся на миг. А потом, слава богу, очнулся.
Я дружил с дочкой Веры Пащенко. Мне было лет шесть. Вериной дочке года на три больше. Девчушка как девчушка. Голенастая, тощая, как все мы тогда, и, как все мы тогда, с весны до осени в цыпках. Ни волос тебе, ни глаз. Никогда не скажешь, что ведьмина. Может, со временем и проявилось что, но я этого уже не видел: жизнь повернулась так круто, что уже в тринадцать лет от своего села оторвался и больше уже в него не возвращался. А нечистая сила в них, девчонках, как известно, если, конечно, имеется, прячется где-то — как раз в эти годы, в шестнадцать-семнадцать, и высовывается. Вылупляется. Девочка-девочка, а вдруг вылупилась — ведьма.
Но — чего не видел, того не видел. На тот момент, повторяю, это была языкатая, прокудная, умевшая постоять за себя — так, что я, тихоня, чувствовал себя в ее тени в полной безопасности, — и все же самая обыкновенная девчонка.
А дружба наша заключалась в том, что мы вместе гоняли наших коров в стадо и из стада. Она ждала меня по утрам в условленном месте, и когда я появлялся там, заспанный, только что вынутый матерью из постели и поставленный торчмя в этом колеблющемся, текучем и поначалу обжигающе-неуютном утреннем мире, девчонка, ухватив меня за плечи, крепко привлекала к себе, а потом, положив мне на макушку раскрытую ладонь, примеряла по себе — как по притолоке, — на сколько я за ночь вырос. И моя стриженая макушка, и ребро ее покоящейся на моей голове ладони всякий раз упирались в одно и то же место — в плавный изгиб, где шея переходит в подбородок. Я бы назвал его голосником: он дрожит у птиц, когда птицы поют. Он трепещет у женщин, когда женщины смеются или плачут.
И каждый раз шутливо сокрушалась:
— Ну и медленно же ты растешь!
Чудачка, она ведь тоже не стояла на месте.
От нее веяло теплом, коровьим молоком — свою корову девчонка доила сама, — и я, зажмурившись, с удовольствием прижимался к ней, готовый снова погрузиться в дрему. Но не тут-то было! Меня начинали тормошить, меня взбрызгивали росой и смехом, мне всовывали в руку ломоть хлеба с маслом. Два куска хлеба и между ними, в середочке, порядочный слой масла. Она разлепляла их и тот, на котором масла оказывалось больше, всовывала мне. Теперь-то я знаю, что это называется бутерброд, но тогда в селе такого слова не знали и говорили проще: кусок.
То, что кусок был с маслом, подразумевалось как бы само собой: как бы трудно мы тогда ни жили, а корова все-таки была, считай, в каждом дворе.
Кусок хлеба с маслом, когда гонишь корову в стадо по утренней, крупного помола и обжигающей чистоты росе, когда с некоторым интервалом после тебя, как зазевавшийся петушок на насесте, просыпается и твой нарождающийся аппетит, — это, доложу вам, замечательно.
Когда я, насупившись, говорил, что мне не велено гонять корову мимо их хаты, она смеялась, брала у меня хворостинку и заявляла:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



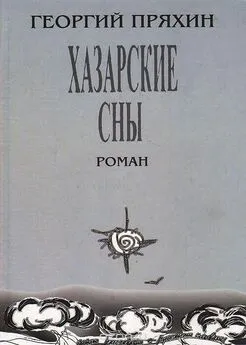
![Георгий Пряхин - Интернат [Повесть]](/books/1099702/georgij-pryahin-internat-povest.webp)