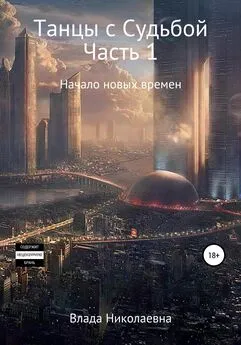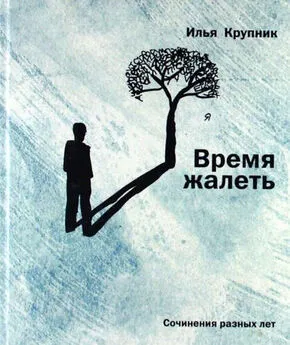Илья Крупник - Начало хороших времен
- Название:Начало хороших времен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00575-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Крупник - Начало хороших времен краткое содержание
Начало хороших времен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот это выражение — «часть кордона фигур и построек» — я запомнил особенно. Что оно значило, «кордон фигур и построек»?
Ц а р ь. Почему так держишься за свою деревню?
Р а д у г и н. Не могу скоро и обстоятельно объяснить, государь. Не только другим, но и себе даже. Некоторые причины будут ясны, но полноты недостаточно. А иные ровно бы неудобно высказывать.
Вот ежели что скажу, например: желаю-де потрудиться для родины, не могу оставить в беде родное, то, может, не следует так выхваляться? Да еще и Бог ведает так ли это. Много нахвастаешь, после хуже — не сбудется.
Кабы было у меня свое притулье и только бы угородец, может, ничего бы я такого не калякал, а делал бы свое и показывал и рассказывал, когда желаю.
Ц а р ь. Поступай придворным художником к нам. Все тебе будет, роскошное помещение и поезжай, куда хочешь, хоть за границу бесплатно и делай, что тебе нужно, что желаешь в своем художестве.
Р а д у г и н. Не согласен я, государь, у меня здесь мое многолетнее дело.
Ц а р ь. Ну, а как относятся поселяне к твоему саду и очагу детскому, как вы говорите?
Р а д у г и н. Не знаю как, государь. И нет ничего определенного. Я нахожусь в чаду от плохой печки, в пыли чердака, простужаюсь от холода. Всю зиму я не парился. И все мне недосуг, ровно и пуговицы пришить к одежде. Я придумываю, государь, и я писал декорации и скелет для них делал, столики, скамьи для детей и костюмы, маски, кукол, коляску для коляд, билеты рисовал в театр. И я же пьесы пишу для представлений в детском нашем театре, то есть в ящике этом, в котором я задыхаюсь, дом называется…
Что сказать, государь, о народном мнении? Чему я могу учить? Я всех людей делю только на две группы: людей хороших и дурных. Но в радуге, государь, не один цвет, а семь цветов. И я всем рассказываю, государь, рассказываю сказки и песенки пою.
II
На первую посмертную выставку Худякова я попал в областном городе, тогда же, четыре года назад. Фамилия ничего мне не говорила, одно ясно было, что художник местный, вернее, из соседней области и умер он не так давно, в 1961 году.
Я, помню, прошел сперва на середину зала и огляделся, и говорю точно первое свое ощущение, никакое не профессиональное, потому что я обомлел: круглолицые тысячи, тысячи деревенских детей смотрели на меня и от счастья они играли на дудках.
А какой странный был колорит везде… Я начал внимательно рассматривать работы. Конечно, они были реставрированные, слишком новенькие. Но все равно — удивительно: сама структура. Традиционный как будто бы, такой обычный, реалистический язык и этот радостный, этот фантастический, невероятный, дробный мир. Это была уже не просто сказка, это миф, который здесь повсюду торжествует.
Но я не умею словами разъяснять живопись. Скажу, что увиделось мне особенно в тот первый раз. Из подполов и из всех колодцев выглядывали крохотные бородатые старички, а рядом с детьми и вровень с ними стояла моя сорока!..
И еще. В акварелях среди портретов я увидел одно удивительное лицо. Человек был немолодой, в непонятной одежде, выбритый, худой, вроде бы после болезни, с непонятным выражением бледных голубых глаз. И я сразу подумал, что это, наверно, и есть автопортрет.
А. Т-ов, конечно, не мог знать, что это не так. Но главное, как он объяснил мне, его поразил покой, мир вот этот души художника (беру все его тогдашние слова), а потом вдруг резким таким контрастом — выдержки из биографии С. Х. на стенде.
Однако что такое «универсальный»? Универсальный по-латыни всеобщий или еще, иначе, разносторонний, охватывающий многое. Может, и в этом ключ?
А. Т-ов рассказывал мне, что когда-то — он прочел — существовало средневековое сектантское учение: дескать, истина вообще на свете ирреальна, она внутри, в душе, человек ей следует, и она освещает путь, а с окружающим миром она живет, мол, в конфликте.
Не знаю, что пересказано здесь точно, а что напутал сам А. Т-ов. Но одно я знаю, что спустя четыре года после увиденной этой выставки и началось новое, к С. Х. на родину путешествие А. Т-ова.
К моему несчастью, и в двадцать восьмом году я не смог присутствовать на следующем, а потом оказалось последнем при его жизни показе работ Семена Александровича в нашем городе, в К., поскольку я находился тогда на областных курсах. Но это было вообще совсем другое, не то, что прежде, и называлось: литературно-концертные вечера оригинальных произведений Семена Худякова-Самойлова. И он, стоя впереди развешанных картин и по-особому расставленных скульптур, хотел объяснить людям, что и как делает, чтоб они почувствовали не просто картинки к сказкам, а все целое, воедино соединенное его искусство.
Он стихами рассказывал, он пел, насвистывал на флейте, что очень нравилось всегда детям. Но здесь в большинстве собравшиеся смеялись, с тех пор, говорят, и прозвали его «финтифляй».
— Поглядите.
Александр Гаврилович протянул мне копию газетной заметки из архива. Привожу ее целиком:
«Где худо — чиним»
Предсказатель судеб живет в деревне Гурдовке нашей волости и прозывается С. А. Худяков-Самойлов. Есть у него большая книга, по которой он предсказывает будущее людям, особенно женихам да невестам. Предсказывал судьбу однажды даже председателю Щагловского сельсовета. А ведь кой-кто верит, главное, в самойловскую чепуху!
Недовольный».Александр Гаврилович опустил копию заметки в папку и продолжал.
«Ну, пошто они ходят ко мне?! — жаловался он, бывало, Семен Александрович, и тогда, да и поздней, и через пятнадцать лет. — «Погадай, погадай», и городские ведь ходят! А я что, колдун разве? Знахарь? Предсказатель? Руки в мозолях у меня. И своя тоска. Я ведь душу в это вкладывал, в мои детища, картины. А им надо свое. Моего-то они не понимают. «Живы ли мужья? Вернутся ли с фронта?» А что я скажу? Сказал, что живы. Что я скажу?»
Как-то в дождливую осень затащил Семен Александрович к себе под крышу «шалаша» старую лодку, что лежала на огороде, закрыть протекавшее место — «все картины мои под дождем». А в соседней деревне женщины передавали одна другой: «Семен-то что надумал, втащил лодку на крышу! Спрашиваю, к чему, а он говорит — потоп будет, Кланя, всех зальет. А я, как Ной, плавать буду, поняла?!»
«Тебе приходилось, — как-то говорил он мне, — когда-нибудь наблюдать лесных гномов? А я наблюдал иногда. Сидишь на пенечке, смотришь в чащу, и вдруг показываются они, лесные старички! Усмешливые такие, и вовсе они не безобразные. Они не безобразные представь! Такое бывает и на этом свете сплетение ветвей…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


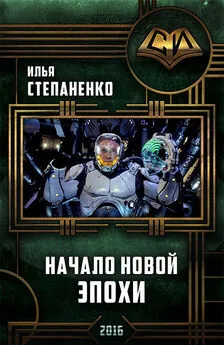
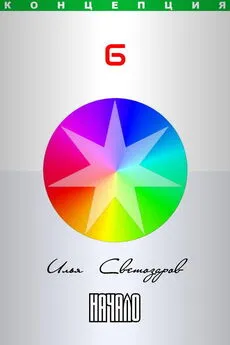
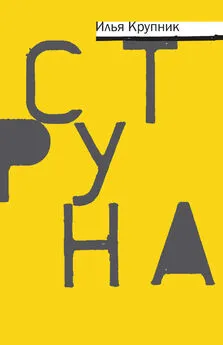
![Илья Крупник - Осторожно — люди. Из произведений 1957–2017 годов [сборник]](/books/1095315/ilya-krupnik-ostorozhno-lyudi-iz-proizvedenij-195.webp)