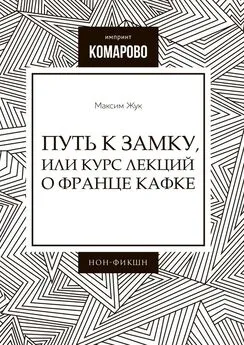Максим Жук - Путь к Замку, или Курс лекций о Франце Кафке
- Название:Путь к Замку, или Курс лекций о Франце Кафке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449093851
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Жук - Путь к Замку, или Курс лекций о Франце Кафке краткое содержание
Путь к Замку, или Курс лекций о Франце Кафке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И в тех пререканиях важных,
Как в цепких объятиях сна,
Все три поколенья присяжных
Решили: виновна она.
Меняются лица конвоя,
В инфаркте шестой прокурор…
А где-то темнеет от зноя
Огромный небесный простор,
И полное прелести лето
Гуляет на том берегу…
Я это блаженное «где-то»
Представить себе не могу.
Я глохну от зычных проклятий,
Я ватник сносила дотла.
Неужто я всех виноватей
На этой планете была? 154 154 Цит. по: Франц Кафка в русской культуре. Указ. изд. С. 394. То же: Ахматова А. А. Подражание Кафке // Ахматова А. А. Собр. соч. в 6 т. Т. 2. В 2 кн. Кн. 2. Стихотворения. 1959—1966. М.: Эллис Лак, 1999. C. 94—95.
Кафкой восхищалась и Марина Цветаева. Она познакомилась с его романом «Процесс» в сентябре 1937 года, находясь во Франции. Сюжет романа совпал с драматическими событиями ее жизни.
Муж поэтессы Сергей Эфрон в 1930-е годы сотрудничал с Иностранным отделом ОГПУ, работая на советскую разведку в качестве вербовщика. В сентябре 1937 года спецгруппой НКВД в Швейцарии был убит Игнатий Рейсс, советский разведчик, решивший не возвращаться в СССР. В его убийстве был обвинен Сергей Эфрон: во французских газетах его имя указывалось одним из первых в списке возможных убийц. Эфрон после убийства немедленно отплыл из Гавра в Ленинград, а Марина Цветаева стала персоной нон грата почти во всех эмигрантских кругах. Кроме того, ее постоянно вызывали на допросы в полицию. Однако поверить обвинениям в адрес мужа Цветаева отказалась.
Можно представить, какое впечатление в таких обстоятельствах произвели на нее первые строчки романа «Процесс»: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест».
В письме от 4 декабря 1937 года поэту Вадиму Андрееву Цветаева провела аналогию между сюжетом романа и событиями, связанными с мужем: «Если можете – достаньте где-нибудь Le Procès – Kafka (недавно умершего изумительного чешского писателя) – это я – в те дни. […] Читала ее на Океане [городок Лакано-Осеан], – под блеск, и шум, и говор волн – но волны прошли, а процесс остался. И даже сбылся. […] Что С <���ергей> Я <���ковлевич> ни в какой уголовщине не замешан, Вы конечно знаете» 155 155 Франц Кафка в русской культуре. Указ. изд. С. 482. То же: Цветаева М. И. Собр. соч. в 7 т. Т. 7. М.: Эллис Лак, 1995. С. 648.
.
Но Кафка был совершенно недоступен советскому читателю вплоть до 1964 года.
Впрочем, существует кафковедческая легенда о публикации новелл Кафки в серии «Универсальная библиотека» в 1920-е годы. Однако ее следов в российских библиотеках обнаружить пока не удалось.
Молодой Габриэль Гарсия Маркес в 1957 году побывал в Советском Союзе на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов. Он был удивлен, узнав, что в СССР никто не читал книг Франца Кафки, так как они еще не переведены на русский язык. Он написал об этом в эссе, посвященном поездке: «В Советском Союзе не найдешь книг Франца Кафки. Говорят, это апостол пагубной метафизики. Однако, думаю, он смог бы стать лучшим биографом Сталина» 156 156 Маркес Г. Г. СССР: 22 400 000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы! / Пер. с исп. Н. Попрыкиной // URL: http://www.marquez-lib.ru/works/sssr-22400000-kvadratnih-kilometra-bez-reklamy-koka-koly.html
.
Кафка так долго шел к русскому читателю не только потому, что его романы и новеллы читались как метафорическое изображение тоталитарного строя. И не только из-за того, что метод его письма противоречил эстетическим принципам советского искусства.
Самая большая опасность кафкианского творчества для авторитарной системы в том, что оно, по мнению Льва Копелева, «противоречит всем представлениям о „полезном“ искусстве – т. е. искусстве моралистическом, идеологическом, партийном, религиозном, воспитующем» 157 157 Копелев Л. Указ. соч.
.
Как вы неоднократно видели, читая эту книгу, Кафку невозможно истолковать однозначно. Его книги требуют напряженной духовной работы и свободы, своих личных выводов и оценок. Именно поэтому творчество Кафки неприемлемо для общества, стремящегося к единству представлений о мире. Но понемногу приближался момент, когда замалчивать важность книг Франца Кафки становилось уже и неудобно и невозможно. С началом «оттепели» в СССР советские писатели получили возможность ездить в западные страны. Довольно часто в дискуссиях о литературе ХХ века их спрашивали, что они думают о Кафке, но никто из них не был знаком с его творчеством. Виктор Некрасов со стыдом вспоминал об этом в книге путевых заметок «Первое знакомство» (1960):
[…] помню, как неловко нам было, советским писателям, когда в Ленинграде, года полтора тому назад, Альберто Моравиа спросил нас что-то о Кафке. Мы переглянулись, мы никогда не слыхали этой фамилии. Возможно, на Западе этому писателю придают больше значения, чем он заслуживает (говорю «возможно», так как до сих пор его не читал, – опять же язык!), но слыхать-то о нем все-таки не мешало бы – его книги переведены чуть ли не на все языки мира 158 158 Некрасов В. Первое знакомство: из зарубежных впечатлений. М.: Советский писатель, 1960. С. 63.
.
В результате политики хрущевской «оттепели» после 1956 года имя Франца Кафки начинает регулярно появляться на страницах советских журналов и литературно-критических сборников, посвященных зарубежной литературе ХХ века. В этих работах большинство критиков, как правило, называют автора романа «Процесс» писателем-декадентом, который не постиг прогрессивных идей марксизма-ленинизма и поэтому находится «в лагере самой махровой реакции» (Дмитрий Затонский). Однако скрытой целью этих негативных публикаций было «ввести в культурный обиход имя Кафки посредством последовательных упоминаний в негативном контексте» 159 159 Синеок А. А. Отечественная литературно-художественная критика 1956—1972 гг. о творчестве Франца Кафки: эволюция, инволюция, рецепция. Указ. изд. С. 43.
.
С развитием либеральных тенденций во внутренней политике СССР литературоведы начинают выделять в кафкианском творчестве и позитивные элементы. Понемногу Кафку начинают представлять более деликатно: уже не декадентом, а модернистом. Благодаря усилиям главных редакторов журналов «Иностранная литература» (Бориса Рюрикова) и «Вопросов литературы» (Виталия Озерова) творчество еще не переведенного классика модернизма стало объектом литературно-художественной дискуссии в эпоху «оттепели».
Резкий поворот в судьбе наследия писателя в СССР произошел в 1962 году. В Москве на Всемирном конгрессе сторонников мира Жан-Поль Сартр открыто, но дипломатично упомянул о Кафке, до сих пор не переведенном на русский язык. Осенью 1962 года, когда в Москву впервые приехала группа писателей из ФРГ, Генрих Бёлль на вопрос, кто является самыми значительными современными авторами в Германии и других странах, назвал, прежде всего, Франца Кафку. В ответ на недоуменную реакцию аудитории он должен был объяснять, кто это такой и что он написал. Арсений Гулыга во второй половине 1960-х годов спародировал этот идеологический парадокс в сатирической заметке «Что такое Кафка?»:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: