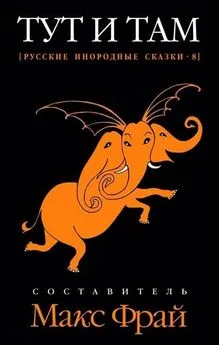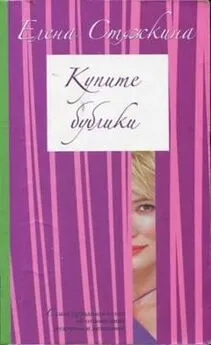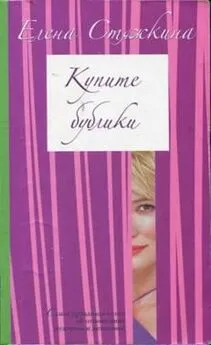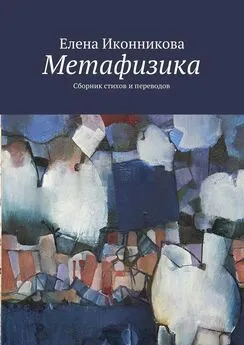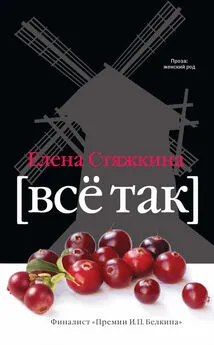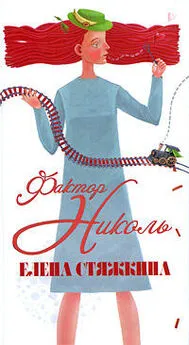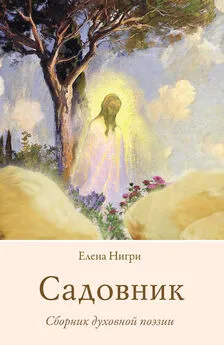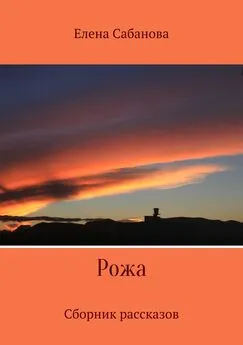Елена Стяжкина - Розка (сборник)
- Название:Розка (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Фолио
- Год:2018
- Город:Харьков
- ISBN:978-966-03-8198-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Стяжкина - Розка (сборник) краткое содержание
Герои этой книги – разные люди, в чем-то хорошие, в чем-то – не очень. В повести «Розка» рассказывается о двух девочках, разделенных лестничной площадкой, об их странной, ни на что не похожей дружбе, в которой даже смерть не может поставить точку. «Ключи» – история о человеке с немодной ныне профессией философ и его почти удачных поисках Европы. «Набросок и “Сан Габриэль”» – о месте, где как будто нет войны, о людях, которые не знают и не хотят знать об окопах, обстрелах, смертях и подвигах, которые по привычке воруют и интригуют, имитируют патриотизм и предают сами себя. А повесть «Фуга» – история военной болезни многоголосья, утверждающая, что множественные личности – это не страшно, и то, что худшую из придуманных личностей всегда можно выгнать и тем победить, а лучшую – не бояться и признать своим другом…
Все эти повести – немного «одиссея», все они – маленькие саги о долгом и трудном пути домой.
Розка (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Там нет легкости. Вообще нет легкости. Шаг к пропасти, и весь вопрос в том, какого она окажется размера. Не принятые всерьез кризисом переходного возраста, не допущенные к настоящей любви, обязанные к наивности, мы переживаем эти элевен-твелв с закрытыми глазами и сбитым дыханием. А иногда и вовсе без него – просто набрав воздуха в грудь, чтобы выдохнуть там, где будет безопасно.
Безопасно уже не будет. Но мы выдохнем, конечно, сохранив молчание о том, как взросло, как зрело – может быть, первый и единственный раз зрело, как честно, бескомпромиссно, как подсчитано, измерено и признано негодным было все, связанное с телом, с будущим, с тревогой не стать тем, кем ты действительно себя видишь. Потом мы убедимся, что все не так страшно, что мир является удачной подделкой себя самого, спрятанного в надежном месте. Мир является копией никем никогда не виданного идеала, копией, созданной на скорую руку – криво, небрежно. И в общем-то, он не требует ничего настоящего, соглашаясь на притворство и оставляя в стороне, в тени то первое и последнее элевен-твелв, в котором было так остро, так сильно и так, как могло бы быть.
Артуром звали первого супруга Екатерины Арагонской. Ему было четырнадцать лет. Ей – шестнадцать. И эти подробности стыдливо умалчивала советская историческая наука, сетуя, однако, что в те стародавние времена возрасты жизни были чуточку иными. Впрочем, на то он и присвоенный первобытными вождями функциональный марксизм, чтобы сетовать и не вдаваться в подробности всяких ничтожных личных жизней, даже если они были столь бурными, что ради брака или немедленного развода создавали государственные церкви и провозглашали себя их главами.
Через год Артур, муж Екатерины Арагонской, умер. А она перешла по наследству к Генриху Восьмому, семейная жизнь которого складывалась каждый следующий раз хуже, чем в предыдущий. Собственно, церковь тоже он. Только не ради Екатерины, а против нее.
Это только кажется, что возрасты жизни были иными.
В городе До сейчас действуют партизаны. Листовки. Надписи, подпольные газеты. Взрывы машин с оружием. Уничтожение радиолокационных станций.
«Никогда бы не подумала, что это может происходить в двадцать первом веке», – говорит женщина из города Киева.
Оптика неизбежного прогресса – такой же обман зрения, как любой другой, оснащенный техникой способ смотреть на мир.
Екатерина Арагонская и ее мальчик Артур, как пишет средневековый хронист, не познали друг друга, а значит, не стали мужем и женой. Возможно, они качались на качелях, говорили о теософии, обсуждали придворные сплетни и рассматривали в бойницы замка очередную битву, которую потом называли войной.
Она не говорила: «Этого не может быть в шестнадцатом веке…»
И он не говорил. Всадников Апокалипсиса ждали с минуты на минуту в любой день, месяц или год. И они появлялись то на Косовом поле, то при Пуатье, то при Кресси, а позже на реке Марне, они крутили ручки верденской мясорубки и трубили общий сбор, завидев дымы газовых камер, они вскрывали животы в Сребренице и в Дамаске, в Славянске и Луганске.
Они никуда не делись. И двадцать первый век – не гарантия и не откупные, заплаченные всадникам Апокалипсиса с процентов по вкладам технического прогресса.
Итальянско-боснийская писательницу зовут Эльвира. Она говорит: «Сначала я была югославкой. Но хорваткой. Или просто хорваткой. Потом, в начале девяностых, я узнала, что боснийка. Потом была Сребреница, в которой исчезли наши мужчины… Итальянкой я стала потом, а может быть, и не стала».
Она говорит: «Теперь, после Боснии, ты всегда половина и половина. И ты всегда или виновата или не виновата. Между постоянным доказательством невиновности и навязываемой виной ты и существуешь. А больше нигде. Ты все время заполняешь какие-то документы, которые проявляют, должны проявлять твою лояльность. И кто-то оценивает, правду ли ты написала. В эти моменты все остро… В эти моменты ты точно присутствуешь. Ты подозрительна, а стало быть, нужна. Вовсе другие – ты не здесь и не там. И не будешь больше никогда и нигде. Времена изменяются, изменяешься ты, изменяется язык, который невозможно догнать и понять. Даже если ты вернешься, это уже будешь не ты. И дом, в котором ты жила раньше, уже не будет твоим домом…»
«Нет, – говорю я. – Нет половины и половины».
«Ты счастливая. Я запомню и буду завидовать».
Я хочу ей сказать, что нечему. Нет половины и половины, потому что нет ничего. Ноль и ноль. Их можно складывать и отнимать до бесконечности. И никому ничего не будет.
«Я уже могу вернуться, – говорит Эльвира. – Там тихо, безопасно. О прошлом в глаза друг другу не смотрят. Там есть пятьдесят квадратных метров, которые моя собственность. Но я не узнаю там ничего. Если думать, что это отрезанное тело, то я не узнаю свое тело…»
Я никогда не спрашивала у Розки о том, где она жила до нашей общей лестничной площадки. Где был ее город, ее школа, ее детская площадка, гаражи, стройка, развалины старого общежития. И наш обычно любопытствующий двор – Оля, Надя, Катя, братья Крутушкины, дотошные ко всем новеньким, приезжающим или просто переходящим через дорогу, из другого двора, – не приставал к Розке с вопросами.
Она не переехала из другого района нашего города До, потому что подруг из прошлой жизни не было даже в упоминаниях. Никого, кроме Наташки, кроме сказанного о ней «что ты хочешь от вспомогательной школы», сказанного с болью, а не с брезгливостью, и подхваченного моим жалким отличницким «хочешь, я попробую ее подтянуть»… Никого и ничего, кроме места со странным для советского слуха названием «Новотроицкое».
Когда витаминизация пионером-Артуром закончилась, Розка уехала снова, а через месяц вернулась с коляской на низких колесах, такой старинной, что ее можно было снимать в ретрофильмах. Сказала: «Подарок от барыни». Я не поняла, о коляске она или о Саше – маленьком мальчике с красивым взрослым лицом, замершим в абсолютной сосредоточенности, в такой внутренней собранности, какую редко встретишь среди людей, считающих себя зрелыми.
«Цыганча, не иначе… Не признается, дура, кому дала. И среди наших – никто ничего не говорит», – у меня здесь пауза, а у Розки – сразу без перехода: «У твоих знакомый ушник есть?»
«Ушника» нашли. Он не считал случай Саши органически безнадежным. Какой-то малый процент, какая-то глубокая часть сложного аппарата у него работала, но социально… Он так и сказал Розке, что социально семья не вытянет, а потому интернат для слабослышащих как гарантия хоть какой-то реабилитации. «Мамку его хорошо реабилитировали. Спасибо». Розка плюнула врачу под ноги. И мои родители долго замаливали этот ее грех, чтобы потом, в возрасте неизбежной старческой глухоты, им было к кому обратиться.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: