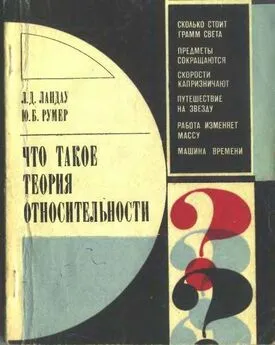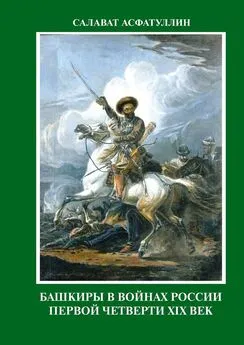Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание]
- Название:Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1072-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание] краткое содержание
Новое издание романа дополнено выдержками из дневников и писем автора, позволяющими проследить историю создания книги, замысел которой сложился у него в 18 лет.
Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Топить печь — целая наука. Первая трудность — растопка. Но Антон её любил больше всего — составлять щепки шалашиком, слоями укладывать топливо: вниз — берёзу, она — и растопка и горючий материал в одном полене, которое занимается не вдруг, только береста, и всё сооруженье долго сохраняет свою форму, потом кладётся что-нибудь потоньше и полегче, наверх — средние полешки. Поджигал дед сам — огонь высекался кресалом, а это было особое искусство: неумеха будет только без толку бить по кремню. И даже когда мама с дедом произвели серные спички (Антон тоже принимал участие, выстругивая тонюсенькие щепочки, за что именовался Ивар Крейгер — по имени шведского короля спичек), дед никому поджиг не доверял — может оттого, что эти спички, загораясь, почему-то стреляли во все стороны.
Антон делал всё как надо, но у деда дым с весёлым воем устремлялся в трубу, а у Антона весь уходить не хотел и ядовито змеился из прихлопа заслонки в комнату.
— Сегодня Антон растапливал? — входя, безошибочно узнавал отец. «Сейчас скажет про дым и про окошко», — думал Антон, и отец послушно говорил: «В избу, в окошко и в трубу немножко». Иногда он принимался экзаменовать:
— Что подбросил дедушка? Послушай.
Антон вслушивался в шум пламени — оно гудело всё так же, наугад ляпал:
— Сосну!
— Сосна гудит и стреляет. А шипит — только осина. Обижается, что её заругали. Зря, дерево хорошее, стойкое, в парную, в колодец, на купол…
Больше всего отец любил дрова из старых яблонь, договаривался и сам ездил спиливать их в питомник, в доме от них пахло садом.
Самое увлекательное — работать кочергой: сгребать поленья в кучу, подбивать к хорошо горящим сухим сырые, стукать по догорающим головешкам. В конце — подгребать угли к той стороне печного свода, которая обращена не к стене, а к комнате. Но главное — определить, когда закрывать трубу: опоздаешь — уйдёт тепло, поторопишься — будет самое страшное, угар. Рассказывали ужасные истории, как умирали целыми семьями; соученики Антона, пропустив первые уроки, часто говорили: «Мы угорели». Закрывать трубу можно не только когда угли отдымятся, но и отпляшутся над ними голубые огоньки, угарный газ СО, яд, смерть. Огоньки завораживали. Но долго открытую заслонку держать было нельзя, хотя отец тоже закрывать не торопился, задумчиво поглядывая на мерцающие язычки. В вечерних посиделках отец участвовал редко — что-то писал в другой комнате. Выходил — с «Паркером» в руке — только по делу: уточнить дату, спросить фамилии трактористов, откликнувшихся на фултонскую речь Черчилля.
— Вам, Леонид Львович, Антон читает все газеты.
— Стараюсь не засорять голову. Антон помнит.
— Бесклубненко и Шерстюк! — выпаливал Антон.
— Во что превратилась Россия, — задумчиво говорил дед. — Газеты пестрят именами ткачих, комбайнёров, свинарок. Почему в прежнее время их имена никому не навязывали? А свинины было поболе.
— Достижения должны отмечаться в любой сфере деятельности людей труда, — возражал отец. — Да и раньше это было. А часовщик Бреге? А Фаберже, которого так чтит Ольга Петровна?
— Это совсем другое. Творчество. А теперь? Фабрика, поток, конвейер.
Антон любил рассматривать вещи деда и бабы: швейцарские карманные часы, подсвечник, ложки, зеркальце, изящные черепаховые гребни, бритву, помазок слоновой кости, бумажник, фарфоровую кофемолку, принадлежавшую ещё бабке бабки, английскую булавку длиной с ладошку — ни один из этих предметов не имел никакого отношения к конвейеру и фабричному производству. Вещи все были замечательной прочности. Когда дед уходил на метеостанцию, Антон с двоюродными сёстрами катался на его счётах — костяшки-колёсики весело крутились, стальные спицы не думали гнуться. (Аспирантом Антон даже начал писать статью, что в СССР задержалось исчезновение домашинных вещей; призывал историков быта заинтересоваться. Но не дописал — нельзя было обойтиться без указания причин: всеобщей нищеты и нехватки товаров).
Спор затягивался, отец оставался покурить с тётей Ларисой, рассказывал про Москву, чаще всего про Сандуновские бани (особенно потрясал бассейн, в котором можно плавать зимой), про пивную на Пушкинской площади с вот эдакими раками, про «Метрополь», про «Прагу» с её знаменитым швейцаром, у которого была такая борода, что меньше червонца дать ему было никак невозможно (время там, видно, стояло: когда Антон стал студентом, было всё то же — и борода, и червонец).
Знание отцом московских ресторанов объяснялось его коротким, но основательным опытом в начале тридцатых. Когда умерла мать, по её завещанию Петру, как младшему из братьев, досталось из наследства больше всех. Деньгами он распорядился просто: прокутил всё в полгода. Стоило послушать, как они обсуждали сравнительные достоинства кухни «Националя» и «Савой» с Василием Илларионовичем.
Рассказывал отец и о родовом гнезде, квартире на Пироговке, в «девятке», бывшей гостинице, с потолками в пять метров — не меньше, чем в знаменитом «Англетере» в Питере. Уезжая на стройки социализма, отец жилплощадь сдал и получил справку, что она сохраняется за ним. Старший брат, Иван Иваныч, в лицах изображал, как веселились чиновники из Моссовета, когда он после войны по порученью Петруши явился к ним с этой справкой. Но отец почему-то все годы надеялся получить площадь обратно и вернуться в Москву. В Москву!..
Мама в музицированиях тоже принимала участие не часто: после десяти-двенадцати уроков (потом, короткое время работая в школе, Антон рассказывал об этом коллегам — никто не верил), придя домой, она ложилась в постель, накрывала голову подушкою и не вставала уже до утра. Но иногда, по субботам, воскресеньям, всё же выходила и всегда просила, чтоб выступил наш с дедом дуэт. Я пел, дед аккомпанировал на скрипке: «В тихом сумраке лампада светом трепетным горит, пред иконой белокурый внучек с дедушком стоит». Репертуар был монархически-жалистный: «Не росой ли ты спустилась, не во сне ли вижу я, знать горячая молитва долетела до царя», «Вечер был». Эту песню я особенно любил:
Вечер был. Сверкали звёзды.
На дворе мороз трещал.
Шёл по улице малютка,
Посинел и весь дрожал.
В этом месте со своим детским альтом должен был вступать я.
«Боже, — говорит малютка, —
Я прозяб и есть хочу,
Кто согреет и накормит,
Боже добрый, сироту».
Шла старушка той деревней,
Увидала сироту.
Приютила и согрела
И поесть дала ему.
В виде доброй старушки всегда представлялась только бабка, она уж точно привела бы сироту к нам в дом и даже оставила насовсем.
Была в репертуаре Антона песенка, которую надо было петь, надев Тамарин цветастый ситцевый платочек. Ему песня не очень нравилась: «Лет пятнадцати не боле Лиза погулять пошла и, гуляя в чистом поле, птичек гнёздышко нашла». Все веселились, особенно в конце, когда Лиза говорила случившемуся тут барину «моё гнёздышко не тронь»; Антон не находил в этом ничего смешного.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание]](/books/1096645/aleksandr-chudakov-lozhitsya-mgla-na-starye-stupeni.webp)