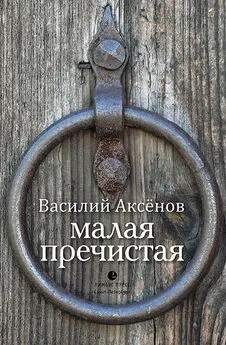Василий Аксёнов - Была бы дочь Анастасия (моление)
- Название:Была бы дочь Анастасия (моление)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)
- Год:2018
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-8392-0641-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Аксёнов - Была бы дочь Анастасия (моление) краткое содержание
Была бы дочь Анастасия (моление) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Из Ялани вышли. Стали в гору подниматься.
Весна.
Потеплело. Многие сняли с себя верхнюю одёжку, в руках её несут, другие, осторожные, расстегнулись только – не простыть бы.
Ваню Чуруксаева везёт на санках зять его, Володя Нестеров, лесник яланский. Смотрит Ваня на всех со своего транспорта внимательно – как пересчитывает, тихий. Папиросу в губах зажал, но не курит – привык к ней, наверное, и что во рту она, не замечает.
Лесовозы навстречу, гружёные. Пять машин. Остановились – пропускают. Из кабин водители – глядят, думают – у каждого из них своя память о похоронах. Пропустили, поехали – у них работа – до места назначения добраться да разгрузиться где-то ещё надо; и снова в лес – за древесиной.
Несли одни, потом поменялись – тяжёлый, хоть и отсутствует наполовину или – вовсе.
Заставляют старухи, то и дело его окликая, Данилу следовать за гробом, как нужно, но не подчиняется им Данила, шагает скоро впереди – от всех оторвался, говорит по телефону – даёт кому-то указания, где сейчас находимся ли, сообщает. Шинель у него сзади в жёлтых крошках глины: ложился, спустившись в могилу, – примерял, побыл в ней сколько-то – прочувствовал, вылез – не делал замечаний. Колотуй нам так сказал об этом. Сирота, говорят про Данилу старухи жалеючи – отступились от него, не велят уже ему делать что-то против его воли, – один у Бога, мол, остался. У Бога-то – можно – не у мачехи, дескать.
Подошли к ограде кладбищенской. Ворота открыли. Вошла первой Наталья Власовна Сотникова, самая старшая из пришедших, – так положено, – последней и выходить будет, она и ворота закроет – обычай.
Поставили гроб на табуретки напротив могилы; нёбо могилы и куча глины около неё – жёлтые; гроб красный, в нём – покойный – никуда и ни на кого не смотрит, на себе сосредоточился – теперь надолго, многое обдумает; безропотный – что хочешь, с ним сейчас делай, что вздумаешь, ему скажи – не ответит; хоть закопай его, хоть наверху оставь – не рассердится.
Господи, прими и упокой душу… раба Божьего… стою, пытаюсь в мыслях проговаривать – не складывается… который раз в начало возвращаюсь… А на ум имя римлянина, принадлежавшего к древнейшему аттическому роду жрецов-кериков, непрошено вдруг почему-то всплыло: Тиберий Клавдий Аппий Атилий Брадуя Регилл Аттик – полное, был софистом и патрицием, и тоже умер – давно, конечно. С университета ещё в памяти болталось – и вот выявилось. Жил там где-то, за тридевять земель, и когда-то, при царе-горохе, а тут, в Сибири, на яланском кладбище, возник вдруг именем своим, упомянулся – что за невидимый сквозняк навеял, за чем следом увязалось? Ум мой на месте не стоит – блуждает, как бродяжка, – может, поэтому – с кем только в странствиях своих не повстречается – так легкомысленно, так легковесно.
Закрыли крышкой гроб, заколотили – и птицы даже испугались, из кедрача, как сок из сжатого крепко фрукта, во все стороны прыснули, а так сидели там, притихшие, и наблюдали.
Опускать стали. Опустили. Много времени не понадобилось – земля, заглатывая, помогает – живое только не ест, выплёвывает, а до отжившего сама не своя.
Каждый взял в щепоть глины – бросил – падает там с грохотом – как о пустое, с гулким эхом.
Женщина. Приезжая. Лет шестидесяти пяти или семидесяти. В чёрных пальто и платке. На глазах очки солнцезащитные – одна на кладбище в таких. Никто её из яланцев не знает. Одни кивают в её сторону вопросительно, другие в ответ плечами только пожимают. Не глину, а три белых и три красных розы бросила – упали те на гроб так, что не слышно. Как из герба Йорков и Ланкастеров – стою, вспоминаю: об этом нам рассказывал когда-то на уроке он, Артур Альбертович, – нынче не расскажет – забыл историю, прилёг и, туго вспелёнутый настоящим, вспоминает теперь будущее. Ушла незнакомая с кладбища раньше всех и одиноко – на автобусе потом уедет из Ялани – наверное; здесь не задержится – конечно.
Умерьте скорбь: человек не умер, а уснул, а спящий встанет.
Но для нас-то, простецов, он не уснул, а умер; видим мёртвого мы и считаем его мёртвым.
Отжил, говорят люди, отмучился. Старые вздыхают спокойно и крестятся, те, что моложе – без особенных движений, но день для всех – ясный; ни облака на небе, высоко-высоко в нём, в зените, только птица какая-то кружит – не наша.
Закапывают. Флакон, Виктор, Гриша Мунгалов и Колотуй. Сноровисто. Флакон, оперевшись на лопату, часто отдыхает – одышливый и дохлый; остальные – без перерыва – дюжие. Рая, сожительница Виктора, советами им помогает – датая; под распахнутой детской курткой у неё, за пазухой, бутылка пластиковая – жидкость светлая в ней не уймётся – спирт колотуевский в себе хранит – всего скорее.
Данила не стоит со всеми возле могилы, бродит, размахивая руками, по пояс в снегу между деревянных и металлических оградок по кладбищу, кресты и памятники изучает – не скорбит: не умер для него его отец – уснул – так разбудить его боится. Уши шапки завязаны под рыжей бородой – не развязывает – чтобы лишнего, ненужного не слышать. В снегу окопы будто, где пробрёл он.
Холм скоро вырос – свежий, зрачком жёлто-бурым на белом выделился; солнце его лучами чуткими ощупывает – удостоверяется; глина-то – вывернули из нутра её, и солнце никогда, поди, не видела – на него зорко пялится; а ночью – звёзды ей ещё увидеть и луну; обвыкнет скоро и осмотрится, после осядет безразлично – всё так.
Рядом старый – ко всему уже присмотрелся – заснеженно горбится. Тумба деревянная, голубая, краска потрескалась и облупилась, с латунной, замутившейся уже от времени табличкой. На табличке написано: «Коланж Марта Илмаревна» – не читаю – помню. И даты – для живых, конечно, убедительно, для мёртвых – бессмысленно.
Народ сплотился – как в единодушии, из-за сугробов – не расступишься особенно, все к могиле вынужденно жмутся. Каждый о чём-то думает – повод для этого у каждого перед глазами; и выражение лица у всех примерно одинаковое – как при просмотре кинофильма – увлечены одним, не оторвутся.
И я тоже, наёмник:
Жизнь – смерть лишает её смысла и цены, стою, думаю, сейчас иначе и не представляется – возле наглядного примера. Имел ты деньги, вор их украл, и что тебе с того, что они у тебя были? Пожил и умер. Дурная бесконечность. Хоть не родись и не живи, чтоб не участвовать, да не от нас это зависит. Стой, раз поставили. Жизнь, в отличие от смерти, непостоянна, скоротечна, зависящая порой от лёгкого сквозняка, от хлебной крошки или виноградной косточки, – процесс, в конце которого одно для праведного и неправедного, для доброго и злого – земля в глазницах и во рту да черви, через них ползающие – как через двери. Но если это только так, зачем же Бог стал человеком, на крест взошёл, кровь драгоценную Свою пролил? Не за червей же. И так и этак думаешь, но всё равно приходишь к одному, необходимость эту остро начинаешь понимать: только стяжать Бога через соблюдение Его заповедей – одно спасение. И цена – это не то, что у тебя украли, и не тот страх, который ты испытываешь перед скоротечностью и непостоянством жизни, а то, что заплатил за тебя униженный ради тебя Бог. И смысл её, жизни, значит – обретение, по силам, благодати Божией. Но трудно как на этом утвердиться, когда видишь: вот он – мёртвый, и ни один ещё, принесённый сюда, назад, чтобы утешить, убедить тебя и обнадёжить, не вернулся. Как и родители мои.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

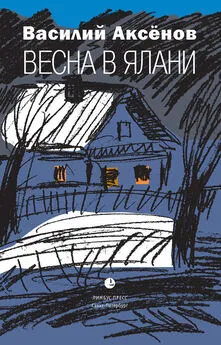



![Василий Аксёнов - Малая Пречистая [litres]](/books/1063328/vasilij-aksenov-malaya-prechistaya-litres.webp)
![Василий Аксёнов - Золотой век [сборник]](/books/1092960/vasilij-aksenov-zolotoj-vek-sbornik.webp)
![Василий Аксёнов - Время ноль [сборник]](/books/1099534/vasilij-aksenov-vremya-nol-sbornik.webp)