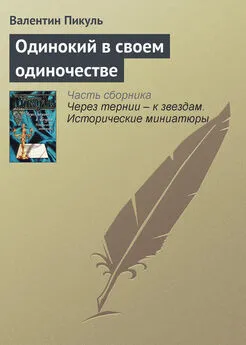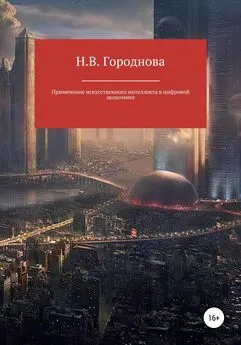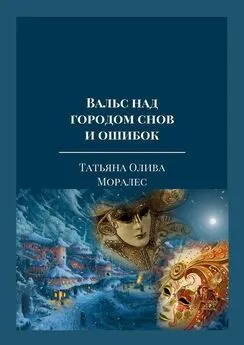Оливия Лэнг - Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества
- Название:Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ад Маргинем Пресс
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-390-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Оливия Лэнг - Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества краткое содержание
Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Он не убежал. Он набросил капюшон своего «келвин-кляйновского» плаща и продолжил подписывать книги. В «Дневнике» через несколько дней он начал так: «Ладно, давай с этим покончим. Среда. День, когда воплотился мой величайший ужас». Он описывает пережитое как мучительнейшее. «Такой шок. Так больно. Физически. И больно потому, что меня никто не предупредил».
Немудрено. Вообразите, что вас раздели, оголили самые несносные части вашего тела на глазах у враждебной или потешающейся толпы. Еще в детстве Андрей Вархола целый год отказывался ходить в школу, потому что его ударила девочка из его класса. Но тут все гораздо хуже: это не просто насилие над личностью — от него оторвали кусок, буквально расчленили.
На ум мне приходит совсем немного изображений, где Уорхол добровольно показывает эту свою сторону, сбрасывает мундир, оголяет ту же уязвимую человеческую оболочку, от которой его защищали и корсеты, и «Капсулы времени». Вернувшись в Нью-Йорк, я откопала серию черно-белых фотографий, сделанных Ричардом Аведоном [166] Ричард Аведон (1923–2004) — американский фотограф, мастер документальной и модной фотографии.
весной 1969 года, на которых Уорхол в черном кожаном пиджаке и черном свитере обнажает свой изрубцованный живот, позирует, как святой Себастьян, раскинув руки.
Еще один обнаженный портрет написала Элис Нил [167] Элис Нил (1900–1984) — американская художница-портретистка.
в 1970-м, ныне он находится в собрании Уитни. На нем Уорхол сидит на диване в коричневых брюках и блестящих бурых ботинках. Он в корсете, но по пояс голый, на виду его грудь во впадинах и шрамах, ее пересекают крест-накрест два багровых разрыва, делят грудную клетку на треугольники. По бокам от них лесенки стремительных белых пунктиров — призраки швов. Взгляд Нил, ее кисть вникают в это разрушенное тело, прекрасное, покореженное. Она ухватывает все: и тонкие запястья, и выпирающий опоясанный корсетом живот, и трогательные груди с розовыми ореолами.
Уорхол на этой картине мне понравился — понравилось, как осторожно и замкнуто он держится. Глаза закрыты, подбородок вздернут. Нил отобразила его лицо в обаятельной глухой палитре бледно-розового и серого, с тонкими призрачными голубыми линиями вдоль скул и волос, придала им утонченную бледность, какой он всегда добивался, подчеркнула исключительную изящность его костей. Как назвать выражение его лица? Не гордость это и не стыд: это существо терпит чужой внимательный взгляд, одновременно и разоблаченное, и скрытное, это образ живучести — и глубокой, болезненной уязвимости.
Странно это — видеть, как маститый наблюдатель позволяет себя рассматривать. «Он выглядит немножко по-женски, и мужчина, и женщина в одном человеке, — говорит об этом портрете художник Марлен Дюма. — Уорхол был и загадкой: есть в нем и фальшивое, искусственное, но есть и одинокая сторона отчужденной натуры».
Одиночеству не полагается вызывать сопереживания, но, как и дневники Войнаровича, как голос Номи, это изображение Уорхола оказалось едва ли не самым целительным средством от моего одиночества, оно подарило мне видение возможной красоты, какая таится в честном заявлении о себе как человеке и, значит, существе с нуждами. Громадная часть боли одиночества связана с потаенностью, с чувством, что уязвимость необходимо таить, прятать уродство, скрывать шрамы, словно они буквально отвратительны. Но зачем прятаться? Что позорного в желании, в жажде, в недостигнутом удовлетворении, в переживании несчастья? Что это за нужда постоянно находиться на вершине или же уютно запечатывать себя в ячейке на двоих, отвернувшись от всего прочего мира?
В беседе о «Чудных плодах» Зои Леонард говорила о несовершенстве, о том, что жизнь состоит из бесчисленных промахов близости, бесконечных ошибок и разлук, что так или иначе завершаются одними лишь утратами.
Сначала, говорит она, шитье…
…было способом думать о Дэвиде. Я думала о том, что хотела бы починить, и обо всем, что хотела бы собрать воедино, — не только о том, что потеряла его в смерти, но и что потеряла как друга, пока он еще был жив. Чуть погодя я задумалась о самой утрате, о работе починки. Обо всех друзьях, что я потеряла, обо всех сделанных мною ошибках. О неизбежности раненной жизни. О попытках сшить все воедино… Такой починкой настоящих ран не заштопать, но что-то мне это дало. Возможно, просто время — или ритм шитья. В прошлом я ничего не могла изменить, не могла вернуть умерших людей, которых любила, но я способна переживать свою любовь и утрату, размеренно и непрерывно, я способна помнить.
Искусство не годится много для чего. Оно не в силах вернуть мертвых к жизни, не умеет устранять ссоры среди друзей — или исцелять от СПИДа, или замедлять поступь климатических изменений. Но у искусства все равно есть необычайные возможности, некая странная способность приводить людей, в том числе и незнакомых друг с другом, к переговорам, проникающим в чужие жизни и взаимно обогащающим. Искусство не способно создавать близость, но зато умеет исцелять раны и, более того, делать очевидным, что не все раны нужно исцелять, не все шрамы уродливы.
Если слышна в этом моя непреклонность, это оттого, что я сужу по личному опыту. В Нью-Йорк я приехала разбитая вдребезги, и, хотя это кажется извращенным, восстановила я свою целостность, не встретив кого-то и не влюбившись, а возясь с вещами, сотворенными другими людьми, медленно впитывая через это соприкосновение, что одиночество, томление не означают, что у человека ничего не получилось, — они означают, что он жив.
Облагораживание происходит в городах, происходит оно и в эмоциях — с похожими последствиями: все делается однородным, обелённым, омертвелым. Среди лоска позднего капитализма нас пичкают представлением, что все трудные чувства — депрессия, тревога, одиночество, ярость — попросту следствия неуравновешенной химии, задачка для решения, а не отклик на системную несправедливость или же на природное свойство жизни в теле, «отбывания срока», как памятно называл это Дэвид Войнарович, в арендованном теле, со всеми сопутствующими горестями и хандрой.
Я не верю, что единственное средство от одиночества — встретить кого-нибудь. Не обязательно. Думаю, дело тут вот в чем: необходимо учиться дружить с собой и понимать, что многое кажущееся нам личным недугом — вообще-то следствие более масштабных сил стигматизации и исключенности, каким можно и нужно противостоять.
Одиночество — штука и личная, и политическая. Одиночество коллективно — оно есть город. Правил, как в нем обитать, нет, как нет и нужды стыдиться, но стоит помнить, что поиск личного счастья не отменяет наших обязанностей друг перед другом, не превосходит их. Мы в этом вместе — в этом накоплении шрамов, в этом мире предметов, в этом физическом вре́менном раю, какой часто похож на ад. Важна доброта, важна общность. Важно оставаться чутким, открытым, потому что из миновавшего нам известно по крайней мере одно: время чувств — недолго.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: