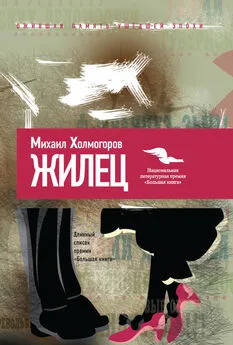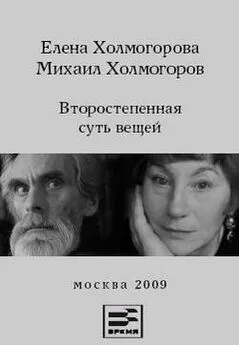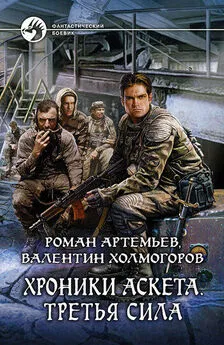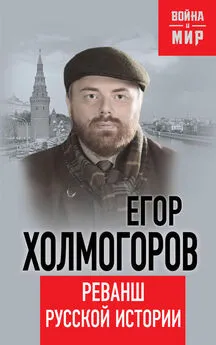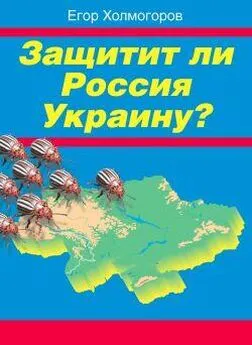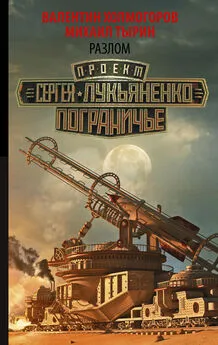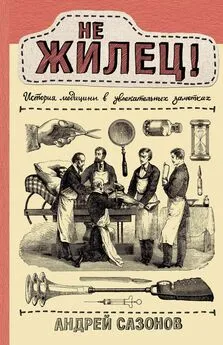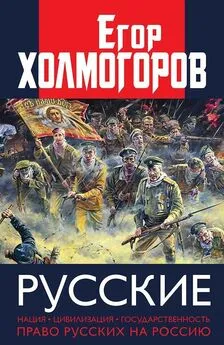Михаил Холмогоров - Жилец
- Название:Жилец
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РИПОЛ
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-08915-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Холмогоров - Жилец краткое содержание
Этот роман может стоять на одной полке с «Орфографией» и «Учеником Чародея» Дмитрия Быкова, с «Лавром» Водолазкина, с «Зимней дорогой» Леонида Юзефовича и в чем-то похож на «Виллу Бель-Летру» Алана Черчесова.
Жилец - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Двух. В гражданской я не участвовал. Ни за белых, ни, естественно, за красных.
– Что не за красных, понятно. Но вы вроде бы монархист, во всяком случае, по воспитанию. А как же присяга? Вы гвардейский офицер.
– Присягу нарушил не я. Присягу нарушил Николай Второй.
– Я не в восторге от последнего императора, но что-то не припомню за ним такого, скорее, наоборот, в силу скудости ума он все возводил в абсолют, в особенности предрассудки самодержавия.
– Он отрекся от престола вместо отречения от глупостей, которые натворил. И честные люди России почувствовали себя идиотами. Мы присягали трусу и ничтожеству. И я вообще отказался воевать. За кого бы то ни было.
– А где ж вы жили?
– Уходил в горы. На Кавказе всегда можно найти место, где тебя никакие революции не достанут.
– Достали же!
– Это, дорогой мой, на их языке выражаясь, не революция, а реакция. От нее, поверьте, укрыться труднее. Где-то я вычитал фразочку их вождя, не то Сталина, не то Троцкого: «Социализм – это учет».
– По-моему, это Ленин. Но не ручаюсь.
– Да, так вот на их учете я погорел. И чует мое сердце, мы с вами только цветочки их учета.
– Все может быть. Меня нынешние обстоятельства сделали фаталистом. Я не волен распоряжаться собственной судьбой. И посему положил себе из каждого момента извлекать максимум возможного. Та иллюзорная жизнь, когда казалось, что от моей воли, желания хоть что-то зависит, кончилась в момент ареста. А ваша так еще раньше – когда вы ушли в горы. Нам остался только физический конец. Но я что-то не припомню, чтобы явившийся в этот мир не покинул его рано или поздно. Мы достигли в своем путешествии пригорода смерти.
Вдруг неловко стало за пышность фразы.
Но и выход нашелся.
– Знаете что, давайте я буду за вами записывать. Здесь вполне хватит места для отшельника с вашей примерно судьбой. Как-то у вас по-русски – взять и в самый азартный момент всеобщей схватки отскочить, уйти в сторону, зажить в пещере…
– У Горюнова нет такого.
– Ну и что? Мы сами теперь творцы, можем писать что хотим. Давайте так. Два часа в день вы мне будете рассказывать о своей жизни – вдруг что-нибудь пригодится.
– Но это же моя жизнь! Как я ее могу пустить на какой-то роман, да еще его припишут этому грязному мужику.
– Мы с вами, уважаемый, в тюрьме. И та жизнь – кончилась. О ней, кроме нас самих, никто больше не узнает. Не знаю, как вам, но мне было бы обидно упускать шанс поведать о себе миру.
– Миллиарды людей покинули этот мир, оставив свою жизнь в тайне. Мы с вами только в общих чертах можем что-либо сказать о жизни какого-нибудь египетского фараона, а что его подданные? Что осталось от них? Или, скажем, о предводителе какого-нибудь полка, не помню, как уж там они назывались, в храбром войске персидского царя Дария? И ничего, мир стоит. Вот что вышибла из меня революция, так это тщеславие. Они истребляют из памяти всех героев. Полководцы, государственные умы, патриоты России – что от них осталось? «Царский сатрап», «реакционер»… И это – о Ермолове, князе Аргутинском-Долгоруком, Лорис-Меликове! Памятники взрывают, мемориальные доски выламывают, зато что ни городишко – улица Робеспьера. Заставьте-ка русского мужика правильно выговорить! Или еще лучше – Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Что за святые? Откуда?
– Мне, Тигран Захарович, нет дела до их святых. Да и вам, наверное, тоже. А оставить хотя бы крупицу правды о том, что мы видели, мы обязаны. А потомки разберутся, кто здесь был святым, а кто преступником.
– Что нам за дело до потомков? К тому времени наши кости сгниют. И еще вопрос, докопаются ли до нашей крупицы.
– Пожалуй, вы правы, – горько усмехнулся Фелицианов. – Если мы, потомки Пушкина и Достоевского, не извлекли уроков, на внуков нечего надеяться. Наворотят других глупостей, своих. Но… не знаю, как объяснить… Видимо, поиск истины – своего рода инстинкт, заложенный в человека. И когда сочиняешь, возникает странный эффект: в какой-то миг оказывается, что не ты ищешь истину, а она тебя. И все-все освещает вокруг, и начинаешь понимать вещи, разуму, казалось, совершенно недоступные. Мы же толком не понимаем, что произошло с Россией, с нами самими, революция всех застала врасплох. Сколько волнений, бунтов произошло в истории, и никогда до семнадцатого года они не знали победы. А мы, свидетели, так и не разобрались ни откуда взялись эти большевики, ни почему победили… И ведь своими глазами все видели.
– Видеть-то видели, да что толку?
– В том и толк, пусть и запоздалый, что хоть что-нибудь поймем, пока ведем свой рассказ. Надо включать память, воображение, а там само пойдет. И хоть что-то прояснится. Не знаю зачем, но почему-то ясность одаривает неслыханной радостью. И вы дождетесь этой радости.
– Но я, Георгий Андреевич, рассказчик-то никуда не годный.
– Это не беда. Вы же видели, слышали, а потом – думали, и немало: что еще делать в отшельничестве?
– Думать-то думал, да что проку? Я воспитан на воинских уставах да циркулярах, читать начал слишком поздно и бессистемно. Русские аристократы народ воспитанный, но темный, дремучий. Серьезных знаний – никаких. Боюсь, пустое это дело, зря вы со мной связываетесь. Вы не думайте, я был свидетелем отречения императора от престола и взялся было даже мемуар оставить потомкам – да такая дрянь вышла, самому тошно.
– Ну так давайте с этого и начнем. Глава «Царский поезд». Без этого нам все равно никуда не деться, а ваши сведения, хотя бы мелкие детали – да вы просто не представляете, какая это ценность! А что до языка – я сам не из нищих, и публика здесь собралась, владеющая словом.
Мучитель белого листа
Поленцев резво взялся за дело. Каждое утро он садился за стол перед огромной стопою белой бумаги. Он мыслил драматургически, сценами, и мгновенно набрасывал планы сюжетов, преобразуя скучные повествования Горюнова, сотника Клюквина, собственные эпизоды из Первой мировой и гражданской. Но дальше планов – развернутых и весьма стройных – дело не шло. Едва он брался за их осуществление, слова, как ему казалось, издыхали на глазах. Он приходил в отчаяние, клял свою бездарность, хотя всего-то и надо было или отложить неудавшийся оборот до лучших времен и идти дальше, или напрячь волю и слух и чуть-чуть переиначить написанное, поискав эпитет или прибегнув к инверсии, оживляющей ритм. Виктор Григорьевич страшно завидовал в такие моменты (а иных он не знал) Свешникову, яркости его дара, умению схватить метафору со стены, из окошка – откуда угодно. Сам-то Поленцев свои метафоры вымучивал. Критик оказался сильнее творца, но это, понимал Поленцев, слабое утешение. Так он одолевал две-три фразы, под ними рука рисовала какие-то углы, круги, птичьи крылья. А текст замирал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: