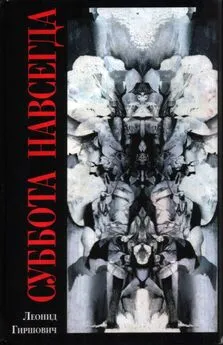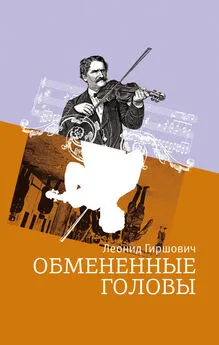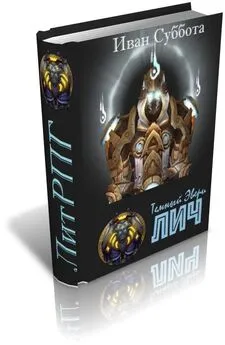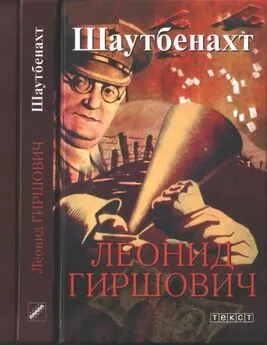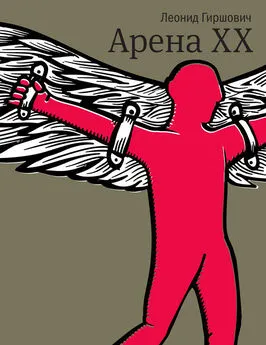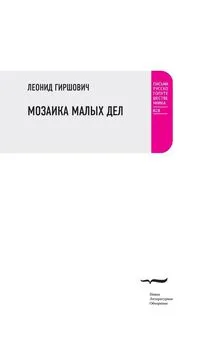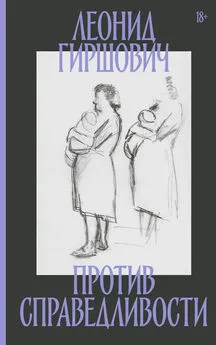Леонид Гиршович - Суббота навсегда
- Название:Суббота навсегда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Чистый лист
- Год:2001
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-901528-02-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Гиршович - Суббота навсегда краткое содержание
Еще трудно определить место этой книги в будущей литературной иерархии. Роман словно рожден из себя самого, в русской литературе ему, пожалуй, нет аналогов — тем больше оснований прочить его на первые роли. Во всяком случае, внимание критики и читательский успех «Субботе навсегда» предсказать нетрудно.
Суббота навсегда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— А ты разве не уехал? — Направление ее взгляда таково, что «уехала» прозвучало бы уместней. — Хочешь прочесть интересную статью в «Известиях».
— Благодарю вас, Марьабрамна, нет.
— А мама говорила, что ты уехал.
— Нет. Благодарю вас, — мой голос уже тверже той шашки, с которой Сердечко приходил к Варюсь. Но Марьабрамнино любопытство и не такое видало. Она смотрит на Елену Ильинишну, вытянув черепашью шею, будто читает интересную статью в стенгазете. Елена Ильинишна держится рабыней на невольничьем рынке.
— Благодарю вас, — сатанею я. — Передайте маме, Екатерине Владимировне, дяде Степе, тете Моте, коту Шизику, что я — не — уехал. Вы поняли наконец?
После всего пережитого она понимает только палкой или камнем. Говорить ей что-либо бесполезно.
— А я думала, что ты уехал, — а может, она догадалась, кто перед ней — по одежде, по застежкам, по чему-то еще, неведомому мне? — Ну, ладно, не буду вам мешать, — она наклонилась к моему уху, крючконосая, со слезящимися глазками, рот — брюзгливым вывертом; черная сотня уже облизнулась красным язычком. — А шейнэ мэйделэ, — шепчет она.
— Нам здесь не дадут спокойно посидеть. Сейчас придет Екатерина Владимировна — спросить, когда привезут керосин. Потом еще кто-то. Короче, вас жаждут видеть. Предлагаю пойти пройтись, съесть мороженое — как вы к мороженому относитесь?
— Отношусь?
Переспросила. Настоящая. (А то: «Как вы к мороженому относитесь?» — «Положительно».) Собственно говоря, это получилось случайно, хотя я и подумывал о такого рода проверке: тест на безумие. Бывает же: сдал вступительные и повредился в уме. Поэтому намечалось сказать ей: «Пошли». Спросит «кто?» — нет, не галлюцинация, спросит «куда?» — вот радости будет у Кости Козлова…
— Пойдемте, что ли? — предложил, глубоко заглядывая ей в глаза — радуясь в глубине души, что тест отпал: боялся его.
— Мне выбирать не приходится, — и встала.
— Зонтик вы можете оставить, — от шуточки «дождя не будет» воздержался.
(По Колхозной, в сторону стадиона.)
Сколько же она не ела? Тут, наверное, не мороженым надо угощать. Но не спросишь ведь: «Когда вы ели в последний раз?» Это то же самое, что спросить: «Когда вы, матушка, умерли?» Мы так еще и не назвали все своими именами. Она хоть и говорит, «в каком году она», но не спрашивает, в каком году мы. Я даже не знаю, что́ есть ее субстанция, что́ она на ощупь — я так ни разу и не прикоснулся к ней.
Значит, семашка чахоточная. Фартуки, гребешки, классные комнаты, mesdemoiselles, краснели до корней, за ушами вымыто до скрыпа, каток, от мороза чуть пьяные. И я ничего не могу. Стою комиссаром — могу отправить назад, откуда пришла, в придачу могу еще перед тем изнасиловать, рванув блузку так, что пуговки стрельнут во все стороны, могу все, кроме того, что хочу. Она говорит: «Мне выбирать не приходится», и тебя как плеткой по глазам. Они непобедимы, не конкретно она, они все — в своем времени. Мне не доказать, что правда — моя. Ну и что с того, что более ихнего страдаю, дикарь среди разбитого им мрамора, осатаневший от бессчетных мутаций, с рыхлым туловищем, вечный термит, который все норовит показать тебе, красавице, что случится с жизнью твоей. Кричит: знаю правду, последнюю правду, голую, как твоя спина — на сырой земле. А не мелькающая средь шумного бала. (А все равно она будет такой же неуязвимой, как и некогда. — Берлин, 1936 г.)
Спустя несколько лет один молодчик крикнет мне — проявившему бытовое бесстрашие по какому-то чепуховому поводу: «Да я таких как ты танками давил в Праге!» Это был крик любви, надо только правильно понимать. Другое дело, что я тоже не снизошел до него — как оне не снисходят до меня.
Мы посторонились, пропуская телегу, или как ее там — этакий кузов гробиком, в котором, по-моему, ничего не увезти, только недоумеваешь: да стоит ли это четырех колес и клячи?
— Чай, при Петре в таких головы рубить возили, — сказал я.
А что если она не может сама, не спрошенная, говорить — по абсолютному своему бесправию, настолько я властелин ее дыхания? «Вы довольны тем, что преданы в мою руку? Моя рука, я знаю, спасательный круг для той, которая разучилась плавать. Так вот, „та“ — довольна доставшимся ей кругом? Или бы желала себе другой?» А она посмотрит на меня, одна из моих бесчисленных арминий — глазами, исполненными сердец, тяжелых, бьющихся, натуральных, и шепнет: «Я о другом и не мечтала». (Вопрос всех одесских и прочих музыкантов, припирающий нас к стенке: «Как вам понравилась моя игра?»)
А могу, наоборот, злобно спросить — у чахоточной семашки, у трупной вонюшки: «Вы же, кажется, из лесу вышли — надеюсь, вы предусмотрительно присели на корточки? Чтобы потом нужды не терпеть, стесняясь по ней попроситься».
— И что же, они поженились, Варвара Ильинишна и этот драгунский корнет, Геня Сердечко?
— О свадьбе никогда не заходила речь — что и к лучшему: Геня погибнет в Мазурских болотах. Нет, Варюсь стала женой Александра Львовича Батурина, вдовца с двумя детьми. Варюша души не чаяла в чужих детях, потому что своих иметь не могла. Последнее, конечно, наложило отпечаток на характер ее отношений с молодыми людьми. (Хитро: «И какой же на характере был отпечаток?») Так и жила она интересами и радостями дня насущного, пока не повстречала Александра Львовича Батурина, чья жена незадолго до этого разбилась насмерть в карете. Александр Львович — хотя прямо об этом не говорилось — предпочитал, ради собственных двух мальчиков, чтобы новый брак был бездетным. Только когда еще это произойдет, когда еще Варенька переберется на Разъезжую… Пока что она досаждала мне как могла — и все с одной целью: отдалить от меня папу, перетянуть его на свою сторону. Читаю я папе свои стихи, она смеется: дескать, я их списала, они слишком хороши для меня. Моего любимого Альму Тадему называет мазилкой. Я тоже не остаюсь в долгу: ее любовь к чужим детям доходит до неприличия — я однажды не удержалась и во всеуслышание сказала: «Люби детей, но своих». Что они после этого со мной сделали…
Услышать от нее о войне (Сердечко сложил голову в Мазурских болотах) было разочарованием. Зная, со слов бабушки, что «эта Лена» умерла молодой, я как-то сразу вообразил себе «Девушку и смерть» в прекрасную эпоху. Собственно, не стрясись 17-й год, эпоха виделась бы такой же волнующе-прекрасной. Три вспорхнувших орла тут не главное. Влечение к позапрошлой эпохе острей: в прошлой мы еще частично живем, эпоха прошлая в прошлую — в ней изюминка. И до войны считавшееся «до войны». (Или все-таки… эпоха, умершая не своей смертью, привидением бродит среди нас?) Словом, хотелось волшебства: чтобы смерть пришла к девушке до истечения этих тринадцати лет, формально выигранных при смене календарных стилей, негласно же — тринадцать наградных лет, это вам, мол, за девятнадцатый век.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: