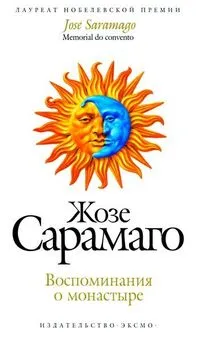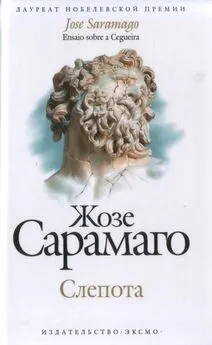Жозе Сарамаго - История осады Лиссабона
- Название:История осады Лиссабона
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2016
- Город:СПб
- ISBN:978-5-389-12427-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жозе Сарамаго - История осады Лиссабона краткое содержание
Раймундо Силва – корректор. Готовя к печати книгу по истории осады мавританского Лиссабона в ходе Реконкисты XII века, он, сам не понимая зачем, вставляет в ключевом эпизоде лишнюю частицу «не» – и выходит так, будто португальская столица была отвоевана у мавров без помощи крестоносцев. И вот уже история – мировая и личная – течет по другому руслу, а сеньора Мария-Сара, поставленная присматривать над корректорами во избежание столь досадных и необъяснимых ошибок в будущем, делает Раймундо самое неожиданное предложение…
Впервые на русском.
История осады Лиссабона - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вот и корректор Раймундо Силва явно нуждается в том, чтобы ему объяснили, как это так получается, что сколько-то крестоносцев, про которых он написал, что они не остались осаждать город, теперь вот сошло на берег, человек сто, если верить подсчетам мавров, сделанным издалека и на глазок. Да, конечно, для нас это не бог весть какая новость, мы ведь знаем, что хотя после некрасивой выходки, которую позволил себе Гильом Длинный Меч, так неучтиво говоривший с королем, несколько чужеземных дворян прямо там и тогда объявили, что мы можем на них рассчитывать, однако ведь мотивы своего решения не объяснили, и дон Афонсо Энрикес желания узнать их не выказал или, по крайней мере, не высказал его вслух, ежели же втайне вопрос этот прояснил, то все так в тайне и сохранилось, в отличие от каких бы то ни было записей, ибо король не озаботился и этим. Так или иначе, Раймундо Силва не может твердить свое, то есть утверждать, будто ни один крестоносец не захотел иметь дела с королем, поскольку имеющаяся у нас Достоверная История говорит, что за небольшими исключениями все эти господа сильно процвели в землях португальских, и, дабы не быть голословными и в доказательство полной несостоятельности этой невесть откуда взявшейся частицы НЕ, довольно напомнить, что наш добрый государь отдал Вилу-Верде французу дону Аларду, а другому французу, дону Жордану, – Лоуринью, а братьям де ла Корни, со временем сменившим фамилию на Коррейа, – Атугийю, а вот с местностью Азамбужей вышло небольшое недоразумение, ибо неизвестно, сразу ли даровал ее король Жилю де Ролену или же спустя какое-то время – сыну его, и в данном случае дело не в отсутствии документов, а в неточностях, в них содержащихся. Само собой разумеется, для того, чтобы своими дарами смогли воспользоваться эти и другие персоны, надо было для начала заставить их сойти с корабля, потом еще дать им возможность заслужить их своей доблестью, так что решительное корректорское НЕ отчасти примиряется с ДА или с МОЖЕТ БЫТЬ и ХОТЯ, из коих и сплетена отечественная история. Скажут, что все перечисленные вместе с неупомянутыми не составят и полудюжины и что к лагерю направляются еще многие и многие, и с законным любопытством всякий вправе спросить, кто они и пожалуют ли их за труды землями. Вопрос этот неуместен, неоснователен и может быть просто-напросто оставлен без внимания и ответа, однако терпимость по отношению к невинному невежеству, как и умение терпеливо сносить дерзость, характеризует личность, воспитанную в духе высокой морали, а потому разъясняем, что бульшая часть этой братии, не считая нескольких наемных воинов, – это слуги, которые применяются для операций погрузо-разгрузочных и иных, какие потребуются, а на должностях наложниц в услужении и для оказания особых услуг трем дворянам имеется еще сколько-то женщин, причем одна – с самого начала, от истока, так сказать, а остальных подобрали в ходе плаванья, когда причаливали к берегу за водой и продовольствием, да и то сказать – плодов благодатнее по сию пору и здесь не найдено, и в неведомых мирах не замечено.
Раймундо Силва положил на стол шариковую ручку, потер пальцы, в которые врезались грани ее, а потом медленно, утомленно откинулся на спинку кресла. Он сидит в спальне, придвинув к окну маленький столик, так что, если взглянет налево, увидит крыши и – в прогалинах меж щипцами – реку. Он решил, что корректуру чужих книг будет держать, как прежде и всегда, за своим письменным столом, а писать свое – станет ли оно или не станет историей осады Лиссабона – при естественном свете, льющемся из окна ему на руки, на листы бумаги, на слова, которые рождаются и остаются, впрочем остаются не все из родившихся, и в свою очередь проливают свет на вещи и явления, помогают постичь их, пройти благодаря им докуда можно и куда без них не дойти никак. На отдельном листке он записал эту, с позволения сказать, мысль в надежде использовать ее впоследствии, если случится и придется, в каком-нибудь размышлении о тайне писания, высшая точка которой, если следовать наставлению поэта, точно и трезво провозглашает, что тайна писания заключается в том, что нет никакой тайны в писании, а если мы эту формулу примем, и, мало того, примем на веру, она вовсе не приведет нас к выводу, что если нет тайны в писании, то нет ее, значит, и в писателе. Раймундо Силва забавляется этой пародией на глубокие размышления, в его корректорской памяти хранится множество не только стихотворных и прозаических строк, отрывков, обрывков, но и цельных осмысленных фраз, которые плавно парят в голове наподобие светящихся, посверкивающих частиц из каких-то иных миров, создавая ощущение, что он погружен в космос и там постигает истинное, лишенное тайны значение всего. Если бы Раймундо Силва мог записать в определенном порядке все те разрозненные слова и фразы, что содержит память, довольно было бы наговорить их, скажем, на магнитофон, и тогда, обойдясь без мучительного усилия, создать Историю Осады Лиссабона, а будь порядок слов и фраз другим, другая вышла бы история, другая осада, да и Лиссабон другой, и так до бесконечности.
Уже уплыли по морю крестоносцы, избавив нас от неудобного и навязчивого присутствия тринадцати тысяч статистов, однако задача Раймундо Силвы упростилась не намного, ибо португальцев осталось по меньшей мере столько же и во много-много раз больше, чем тех и других, вместе взятых, имеется в городе мавров, включая и несчастных израненных бедолаг, которые бежали сюда из Сантарена, надеясь найти защиту за стенами Лиссабона. Каким образом намерен Раймундо Силва со всей этой оравой справиться – вопрос для проформы. Будучи осведомлены о его вкусах, мы вправе с большой долей уверенности предположить, что он возьмет каждого по отдельности, изучит жизнь его, предков и потомков, любовные увлечения, ссоры-распри, добрые и скверные стороны характера, а особое внимание уделит людям, которым в самом скором времени суждено будет умереть, ибо едва ли в обозримом будущем появится другая возможность оставить письменное свидетельство о том, кем были они и что делали. Довольно отчетливо представляет Раймундо Силва, что на такое может не хватить его ограниченных дарований, ибо, во-первых, он – не Бог, да и никакому богу, что бы там о нем ни толковали, не под силу исполнить нечто, хотя бы отдаленно напоминающее это намерение, ну а во-вторых, он – не историк, а люди этой категории по способу видеть мир ближе всего стоят к божествам, и, в-третьих, о чем следовало бы заявить с самого начала, никогда не имел склонности и вкуса к литературному творчеству, и порок этот совершенно явно затруднит ему то изобретательное умение сочинять, коему все мы в большей или меньшей степени отдаем дань. Что касается мавров, то наивысшим достижением автора пока стал муэдзин, который появляется время от времени и находится в самом что ни на есть невыгодном положении, поскольку из толпы статистов он хоть и выделился, но не настолько, чтобы стать героем. Что же до португальцев, то, за вычетом короля, архи– и просто епископа и еще нескольких дворян, кои, впрочем, фигурируют исключительно как носители имен, главную сложность представляет собой нерасчленимое множество лиц, неизвестно кому принадлежащих, и тринадцать тысяч человек говорят не разбери-пойми что и как, а чувства свои – ну кто бы сомневался, что они у них есть, – выражают способом, столь бесконечно далеким от нашего понимания, что кажется, будто стоят несравнимо ближе к своим врагам-маврам, нежели к нам, носящим чин и осененным стягом их потомков.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
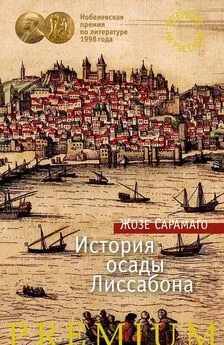

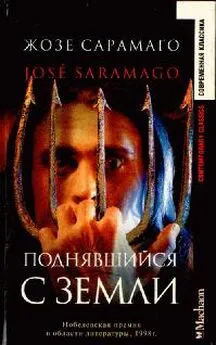
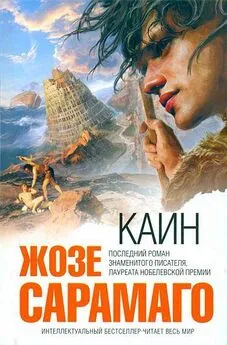
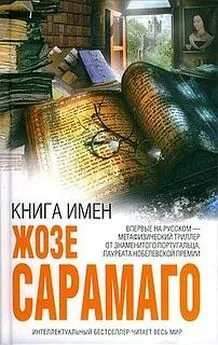
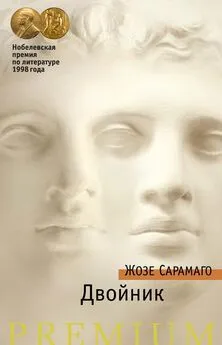
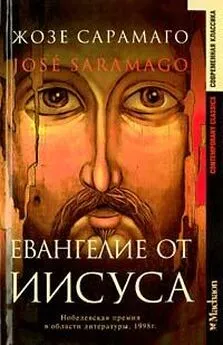
![Жозе Сарамаго - [Про]зрение](/books/1128550/zhoze-saramago-pro-zrenie.webp)