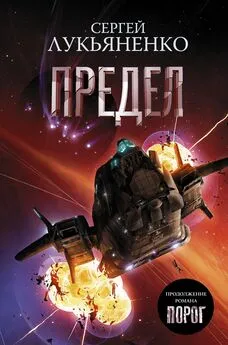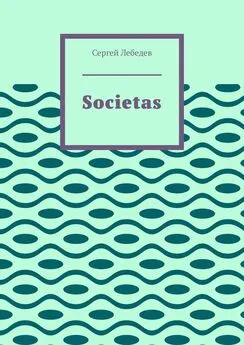Сергей Лебедев - Предел забвения
- Название:Предел забвения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-54441-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Лебедев - Предел забвения краткое содержание
Это — роман-странствие, рассказывающий непростую историю юноши — нашего современника, — вдруг узнавшего, что его дед был палачом в лагере. Как жить с таким знанием и как простить любимого человека? «Предел забвения» написан в медитативной манере, вызывающей в памяти имена Марселя Пруста и Генри Джеймса. Он сочетает в себе достоинства настоящей качественной литературы и яркость исторической проблематики и придется по душе не только любителям «лагерной» темы, но и тем, кто ценит современный зарубежный роман с элементами триллера и мелодрамы!
Предел забвения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В тоске моей плоти, в печали сердца,
В жару и в стужу, в темноте и во мраке,
Во вздохах и в плаче — вперед пойду я!
Теперь открой мне горные ворота.
Повторил — и еще успел поразиться, что нет временных различий для такого рода состояний, которые безошибочно узнаются, когда они уже есть внутри тебя. Нет ни сомнений, ни борения, ни готовности, ни решимости — только понимание, снимающее выбор, развилку, отменяющее второй путь; и тогда ты в полноте своей свободы говоришь в ответ на «Ты войдешь и больше оттуда не выйдешь» — «Теперь открой мне горные ворота», говоришь так потому, что вдруг осознаешь: все другие, кто входил, входили со страхом в сердце, входили не своим путем, ведомые ложными причинами, от долга до тщеславия, а ты тот единственный — в смысле жизненной точности, а не в смысле избранничества, — для кого этот путь верный согласно направлению внутреннего пути, пути жизни.
Красный снег падал над тундрой до Ледовитого океана; земля была красна, а вода поглощала его, и темные зеркальные реки текли невозмутимо; красные капли срывались с проводов, в карьере снег таял на камне, по трещинам и расселинам бежали красные ручьи, словно здесь подсекли кровеносные жилы земли и добывали эту земляную кровь; на буровых, похожих силуэтами на лагерные вышки, в устьях скважин проступала розовая пена, и газовые факелы над тундровыми пустошами становились алыми; бензопила на лесоповале разбрызгивала красные опилки, и лопата канавщика уходила в пустоту, где что-то липко хлюпало; под досками рухнувших бараков просыпались от полувекового сна клопы, и медведи, чьи предки лоснились когда-то от съеденной человечины, вновь приходили к отвалам шахт, с которых сбрасывали расстрелянных; человеческая кровь текла в проводах, в древесных стволах, в артериях зверей, в пустотах земли, словно мир стал одной кровоточащей опухолью, сплетением кровеносных сосудов, и только реки — реки текли невозмутимо.
Потом красный снег растаял до конца; в голове тонко звенело, словно лопнули от напряжения струны-капилляры. Мы вышли наружу.
У сторожа левая рука была искусственной, а необмятые, слишком гладкие ботинки выдавали, что и вместо ног протезы; морщины на его лице были глубокими и застарелыми, кожу уже нельзя было разгладить пальцами, чтобы побриться, она запеклась, как на месте ожога, и неровная седая щетина торчала из нее; худой, когда-то очень высокий — с него начиналась бы любая шеренга, выстроенная по росту, — человек этот был теперь согнут, и горб на его спине казался зачатком второй головы; глаза его были словно с другого лица, от другого тела: жизнь утомила плоть, но в глазах, в их покрасневших, изъязвленных белках, существовало нечто бессонное, помнящее, всегда бодрствующее, но ничего не ждущее.
Сторож — этот человек был им не по профессии и не в силу призвания; он был, если так можно выразиться, сторожем без глаголов: он не сторожил, не охранял, не исполнял обязанностей, положенных сторожу, но тем не менее им был — в ином смысле.
Когда кладбище еще было лагерным, его, инвалида, а в вольном прошлом — каменотеса и мастера гравировки по камню, приставили делать памятники; десятки лет он высекал имена, фамилии, звания и должности, словно был служителем загробного отдела кадров; он вел свой учет тем, кто посадил его и охранял, вел свою книгу жизни и смерти — кипу листков в картонной папке «дело №…», куда вписывал всех покойников.
Потом, когда город уже стал больше лагеря, окончился его четвертьвековой срок, но он остался; гравер говорил, что ему некуда возвращаться, что было правдой, но истинной причиной было другое: он сросся с кладбищем, привык стоять у его ворот, сгорбленный, оглохший от визга пил по камню; бывшие лагерные чины уходили на пенсию, и рано или поздно, с выстрелами почетного караула или без, с орденами на подушечках или без них, чинов опускали на веревках в неподатливую, каменистую землю, где на глубине метра лом ударялся в лед вечной мерзлоты; гравер брался за свой инструмент, выбивая на камне годы жизни.
В нем осталось не слишком много плоти, треть его тела состояла из металла, дерева и пластмассы — гравера ценили и лечили на совесть; та плоть, что уцелела, пропиталась пылью камня и абразивных кругов, каменная пыль была в его легких, он стал почти минералом, как те погибшие в соляных копях горняки, чьи тела, ставшие соляными образованиями, находили спустя десятилетия. Его и звали — Петр, камень, и он подлежал уже не физиологии, а петрографии — науке о горных породах. Всю жизнь больше знавшийся с камнем, чем с людьми, он изучил его медленную силу, силу давления, выгибающего горные пласты, силу подспудных копящихся напряжений; он обратил эту силу на себя, превозмог слабость ожидания и превзошел натугу терпения; он был просто кладбищенским каменотесом, жил при кладбище, и даже в глубокой старости буквы на камне ложились у него ровно и точно.
Зрение, глазомер гравера словно установили ту же точность внутри него самого, требовательные к верным начертаниям буквы подчинили тело служению линиям; может быть, он и выжил лишь благодаря этим буквам, благодаря их графике; он стоял как бы на двух границах сразу — на меже жизни и смерти и на том пределе, где незримое слово становится зримым, уловленным в графические сгустки букв; буквы стали его лагерной пайкой, и не скудные калории питали его — он кормился от алфавита, и в практическом, и в духовном смысле. Он жил, не помышляя о мести, жил единично и одиноко, и жизнь его длилась, пока оставались еще на свете те, кто состоял в лагерной охране; он встречал их у кладбищенских ворот, как они когда-то встретили его у лагерных; он стоял на заемных ногах из железа и дерева, а они лежали на спине, и ноги их были переобуты в ботинки, заранее купленные для похорон. Не месть владела им, не ощущение свершающейся справедливости — он просто смотрел, как они уходят вереницей, растянувшейся на годы, уходят, будто прожили обычные жизни, были обычными людьми — и он, обязательно он должен был выбивать цифры, прощальные слова жен и детей на их могильных плитах, чтобы содеянное ими и уже почти забытое, не ставшее виной, не породившее ни покаяния, ни искупления, все-таки закрепилось, утвердилось как нечто действительно бывшее; утвердилось не в памяти людей, а именно как не зависящий от памяти, от «размноженности» в воспоминаниях факт бытия.
Достаточно одной зарубки, одной меты, чтобы нечто не исчезло. Нужен лишь один человек, который возьмет на себя труд памяти; помнить — означает быть в связи с реальностью, даже иначе — самому быть этой связью; не мы удерживаем в воспоминаниях реальность прошедшего времени, а само прошлое, когда-то сцепившееся, сложившееся по-живому, говорит памятью человека, и речь эта ровно настолько ясна, насколько сам человек не лжив не в смысле намерения следовать правде, а в смысле абсолютности позволения говорить собой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

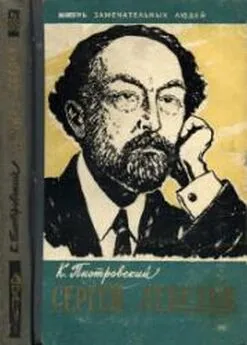
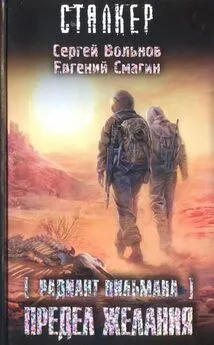
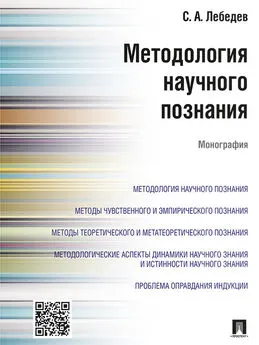
![Сергей Лукьяненко - Предел [litres]](/books/1056062/sergej-lukyanenko-predel-litres.webp)