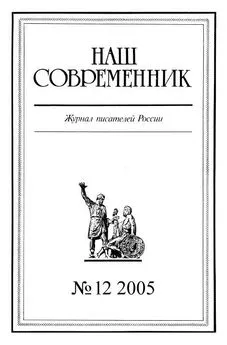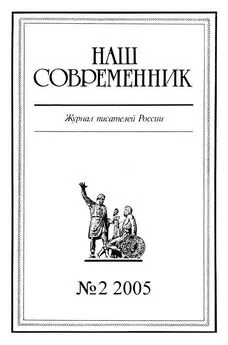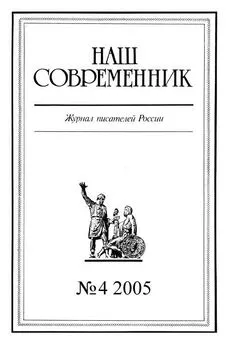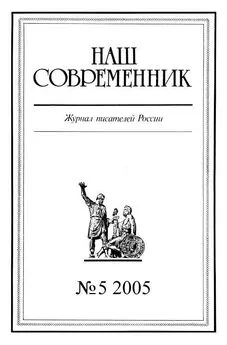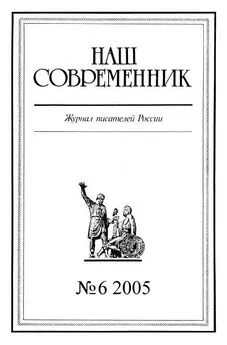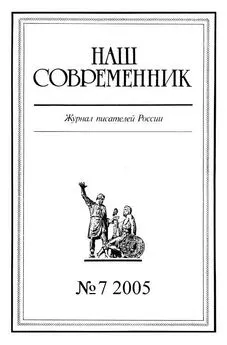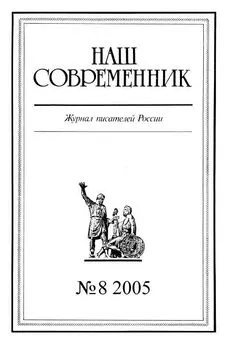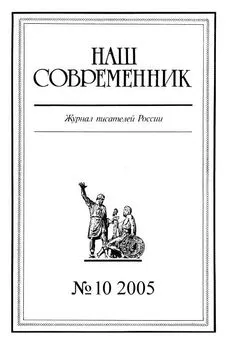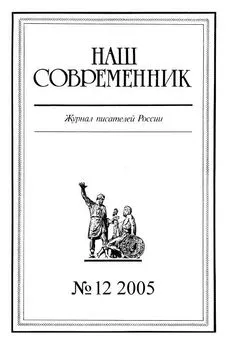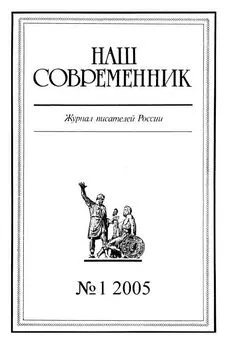Array Журнал «Наш современник» - Наш Современник, 2005 № 12
- Название:Наш Современник, 2005 № 12
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Журнал «Наш современник» - Наш Современник, 2005 № 12 краткое содержание
«Наш современник», 2005 № 12
Наш Современник, 2005 № 12 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Вы же мои друзья, — сказал, как бы между прочим, но убеждённо.
Зная многое, Свиридов постоянно желал знать больше. С первой встречи и до самой последней он постоянно о чём-нибудь расспрашивал. Круг его интересов был необыкновенно широк, но более всего любил расспрашивать о людях, чаще всего о писателях:
— Юрий Николаевич, вы знакомы с имярек? Читали?
— Читал, знаю.
— Расскажите о нем. И если можно, то подробнее.
Интересовался только прозаиками. Очень редко вспоминал ныне живущих поэтов. Но если заходил о них разговор, то всегда давал точные характеристики и оценки. Знал.
Я заметил, что в его библиотеке современных поэтических книжек было мало. Ценил стихи Станислава Куняева, Владимира Кострова. Постоянный интерес вызывал у него Юрий Кузнецов. Знал, и хорошо, поэзию Рубцова. К судьбе поэта относился с душевной болью, как к жертве.
В одну из самых первых встреч спросил:
— А как вы относитесь к Куняеву?
И задавал этот вопрос не единожды. Я каждый раз отвечал, что знаю Станислава очень давно, что отношусь к нему и его поэзии хорошо. Такой ответ его явно удовлетворял. Для Георгия Васильевича было характерным постоянно возвращаться к одним и тем же вопросам. И это происходило не по забывчивости: памяти его можно было только завидовать. Этим он как бы проверял свои собственные взгляды на человека и события. Но, повторюсь, поэтами, ныне живущими, интересовался мало. Другое дело — прозаики. Их жизнь и творчество постоянно занимали его. О Викторе Астафьеве говорил чаще, чем о других:
— Астафьев в нашей национальной литературе — грома-а-аднейший талант (выделил голосом) и великий труженик! Его проза подобна каменной кладке — объемна и на века. Так строились древнерусские кромли.
Вместо широко употребимого «кремль» Георгий Васильевич произнёс теперь уже забытое древнерусское «кромль». Кстати, доныне сохранившееся в курском речении. Он нечасто, но любил употреблять слова, пришедшие к нам из далекого прошлого в первозданной их красоте. Я сказал, что Виктор Петрович исковерканной ранением рукой, с единственным зрячим глазом, макая в чернилку-непроливайку старенькую ученическую ручку, писал, поначалу не вставая от стола, до десяти часов кряду. Но и этого было мало. Уже готовую рукопись, от начала до конца, «белил» всё той же ручкой по многу раз, а потом ещё и правил по напечатанному женой тексту не единожды. Некоторые повести переписывал до десяти раз. Георгий Васильевич, утверждавший, что музыку невозможно придумать — «её надо сначала услышать», — более, чем кто-либо, знал, как тяжек труд перенести услышанное на бумагу.
— Астафьев свою прозу слышит. Она является ему, как музыка, — произнёс убеждённо.
И тогда я рассказал, что все произведения Виктора Петровича, от первых рассказов и повестей вплоть до «современной пасторали» «Пастух и пастушка», слышал от него изустно.
— Он пересказывал вам сюжеты?
— Нет, он «проговаривал» каждую свою вещь. Творил. Порою в лицах, целыми готовыми кусками! И так увлекательно, что и незаметно было, как истекает время. Случалось, ночами напролёт длилось изустное повествование.
Георгий Васильевич искренне восхитился. А потом надолго задумался. Сам великий труженик, но и умевший воплотить услышанное им в мгновение ока на нотные листы с гениальной простотою и без помарок, может быть, думал тогда о том, что не всегда следует быть «галерным рабом» своей профессии.
Услышанное от Бога всегда выше того, что перескажет художник людям.
— Юрий Николаевич, а то, что рассказывал вам Виктор Петрович изустно, это было его прозой?
Я не задумываясь ответил: «Да!». Кстати, эта изустная астафьевская проза до сих пор звучит в душе, не замолкая. И мне искренне жаль, что рука зрелого художника убрала многое из того «далёка», звучащего во мне.
Спустя четыре года после смерти Георгия Васильевича, за три месяца до своей роковой болезни, Виктор пришлёт мне последнее письмо. Со свойственной ему безжалостностью к своему творчеству, он написал: «…Однако ж, год не работавши по-настоящему, летом я раздухарился и написал шесть давно поспевших в подбрюшье рассказов да „затесей“ с десяток… и ещё вот два черновика рассказов выдал; кажется, удалось мне наконец-то писать без потуг на изысканную художественность и кустарное изящество, так писать, как рассказывать: просто, доступно и внятно…».
Великий русский писатель, оставивший после себя многие тома классической прозы, продолжает до последней минуты жизни искать в себе большей простоты, доступности и внятности.
Так произошло в моей жизни, что первые строчки, которые я прочёл в раннем детстве самостоятельно, оказались строками из «Тихого Дона». В своих воспоминаниях о Шолохове я писал об этом подробно. Но то, ещё не осмысленное чтение осталось в глубине памяти и, вероятно, каким-то удивительным образом повлияло на восприятие личности Михаила Александровича. Моё отношение к нему было изначально — сыновним.
В нашем доме кроме первых книг писателя был и небольшой его портрет, висевший на стене. Отец мой, страстный тогда фотолюбитель, сам переснял его, кажется, из «Роман-газеты», сам увеличил, отретушировал и заключил в им же изготовленную рамку, под стекло. Был Шолохов для меня сызмальства своим — семейным. Эту «семейную» любовь к нему пронес я по всей жизни. Очень долгое время считал, что так к нему все и относятся. И крайне был удивлен реакции когда-то очень известного критика В. И. Воронова, рецензировавшего в издательстве одну из моих книг.
— Мне твоя книга весьма понравилась, — сказал он, позвонив по телефону. — Я с чистой совестью написал сугубо положительную и даже хвалебную рецензию. Но есть в рукописи одно место, котороё меня не устраивает вовсе. Это твоё отношение к Шолохову. Он для тебя божество, ты на него снизу вверх смотришь!.. Должна быть своя писательская гордость: он писатель, и ты писатель! И почтения твои ни к чему!
— Он — Шолохов! — ответил я, считая, что этим всё сказано.
Однако критик был суров:
— Ну и что?!
В ту пору я уже кое-что понимал в шолоховской судьбе, но всё ещё не мог уяснить не просто драмы, но истинной жизненной трагедии русского гения. Позднее, при встречах с ним, увидел в глазах, даже смеющихся, постоянную, тщательно скрываемую боль. Меня удивляло, что близко знавшие Михаила Александровича люди, даже считавшиеся его друзьями, словно бы и не замечали этой боли, этой гнетущей тайны. Со многими пытался говорить об этом. Анатолий Владимирович Софронов, с которым я долгие годы работал в «Огоньке» и был близко знаком, даже рассердился на меня:
— О чём ты?! Шолохов — скала! Глыба! Ему ли терзаться блошиными укусами мелких склочников и подлецов! Он их и в микроскоп не видит! Он, Юра, человек межпланетарный. Любую сионистскую слизь отряхнет и не заметит!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: