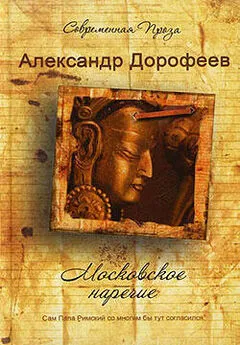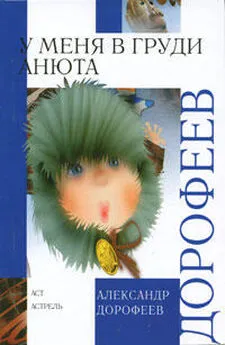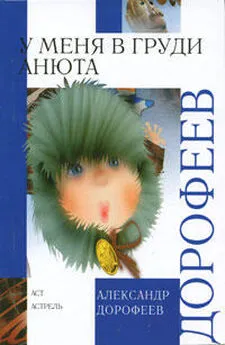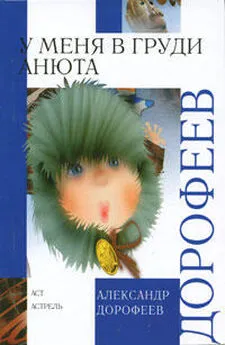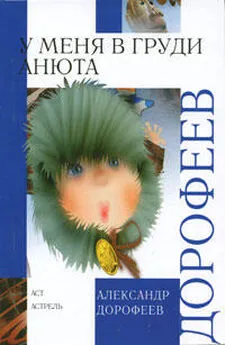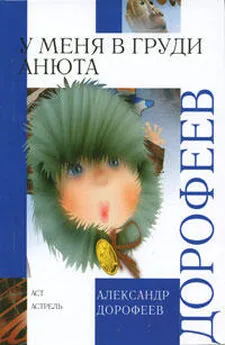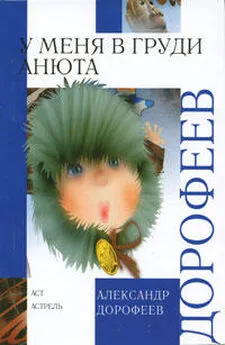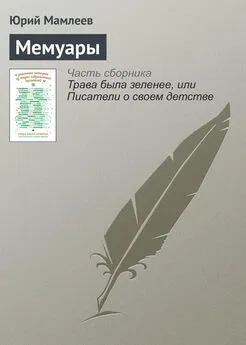Александр Дорофеев - Московское наречие
- Название:Московское наречие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-048209-2, 978-5-271-18676-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Дорофеев - Московское наречие краткое содержание
Герой романа Туз, сам того не ведая, выполняет некое задание в этом мире, собирая воедино части таинственного талисмана божества Индры, дающего государственность народам. Попутно Туз намеревается продать древнюю роспись из раскопок буддийского монастыря. Будда с монахами заводят его очень далеко – через всю Европу в Центральную Америку.
Московское наречие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Насколько мог бережно Туз положил ее в лужу и замер рядом, не понимая, как теперь вытаскивать, с чего, собственно, начинать, за что хвататься. Ему ни разу не приходилось доставать девушку из лужи.
Липатова с виду не слишком обиделась – ни слез, ни ожидаемых воплей. «Именно здесь мое место, – сказала она, скорбно оглядевшись. – По заслугам мне воздается – за дурные мысли и влечения». Поднялась и, не отряхиваясь, побрела в сад. Туз устремился следом, запев романс «Прощание с умершей возлюбленной», но и этим не тронул Липатову – глядела она отчужденно, нюхая молодые листочки, поковыривая кору на яблонях. И с тех пор долго общалась с ним без всяких намеков, чисто дружески.
Вообще Туз не очень разумел знаки, которые ему подавали окружающие, а также свыше. Немало времени ломал голову и над этим печальным случаем и равнодушным взглядом. Лучше бы кратковременная истерика, думал он, чем такое отторжение. И вот однажды его все же осенило – ведь отяжелела Липатова от желания! Испытывала, по плечу ли такое вожделение Тузу, вынесет ли. Конечно, это была проверка, вроде теста, который он, увы, бесславно провалил.
С наступлением весны Филлипов переключался на поэзию, забывая холодную прозу, и не утолял жажду Липатовой. «Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, – говорил заунывно, как псалмопевец. – Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей»… И все понимали, что пора туда, где слышна горлица, где цветы на земле. И собирались разъехаться в разные концы, которые ныне отпали, отвалились, чтобы поднимать из пепла и сохранять на местах всевозможные древности.
Перед дорогой, когда уже сидели на чемоданах, рюкзаках, котомках и ящиках с восстанавливающими веществами, Филлипов затягивал: «Грустный вид и грустный час – дальний путь торопит нас. Вот, как призрак гробовой»… «Иди ты к лешему!» – прерывала Липатова, но он все же заканчивал вполголоса: «Путь далек – не унывай!» После чего все вставали и бесконечно расцеловывались в дружеском хороводе.
Дом на Живом переулке опустевал, мертвел, и стеклянная крыша словно прикрывалась куриным веком. Его обитатели убывали по разным направлениям.
Но с какого бы вокзала ни уходили и куда бы ни шли поезда, отправлявшиеся обыкновенно ближе к вечеру, на утро какого-то дня над ними обязательно нависала, запрокидываясь, огромная, замахнувшаяся мечом Родина. Страшная, но зовущая мать, дававшая покой и подавлявшая исполинской властью.
Туза сразу обуревало желание выпить напоследок, а затем, расцеловав подошвы, сложить покорно для усекновения виновную голову.
Подобно каменной скифской бабе Родина притягивала, но в то же время хотелось сбежать от ее подножий как можно дальше, на окраины мира, как поступил, вероятно, рабочий с молотом. Оставшаяся без отчизны Родина-мать, разогнув в сиротстве серп до величин меча, глядела грозно вслед с кургана.
За ней распахивались степи, моря, а затем и пустыни, укрытые весенними маками и тюльпанами.
Хороши были эти пространство и время, но и они вытекли почти без остатка, раздельно, как белок и желток из умело разбитого Липатовой яйца.
Лествица
Несмотря на болезненную бдительность привратников, Туза пускали во все закрытые для посторонних дома – журналистов, литераторов, музыкантов, актеров, зодчих, шахматистов, кинематографистов, художников, Чехова и даже академика Сергеева-Ценского. Всюду требовалось хоть что-нибудь восстановить или хотя бы сохранить, начиная с обстановки и кончая отношениями.
Особенно привлекал старинный особняк на Гоголевском бульваре, где некогда встречались заговорщики-декабристы, а ныне, будто рухнувшие кариатиды, лежали под колоннами у входа, ожидая восстания, уже высказавшиеся до дна живописцы, графики и скульпторы.
Переступив через них, надо было взойти по парадной лестнице и повернуть налево, в едва приметную дверь, за которой открывался тихий, уютный ресторанчик. Хотя в начале вечера дыхание здесь бывало стеснено, поскольку некстати забредали чуждые офицеры из соседнего Генштаба, мнившие себя, возможно, наследниками мятежников.
«От этих блядей никакого проку, – толковали художники. – Недаром им жалованье положено, а не заработная плата. Жалованье – звучит как подаяние! В царской армии, конечно, было офицерство, а это быдло безграмотное. Поглядите на их, с позволения сказать, лица – разве есть тут Скобелевы или Брусиловы?»
А кто-нибудь из штабистов обязательно кивал на художников: «Устроились – свой дом у них с рестораном. Тут и прожигают жизнь – ни шиша для блага страны! Вымирающий вид! Нацарапают квадрат на фоне и гребут тысячи, дурят народ. И ведь ни одного Репина среди патлатых развратников, не говоря уж о Шишкине. Да что там – сейчас даже красок таких нету, как раньше»…
И неминуемо возникали потасовки, быстро, однако, завершавшиеся общей выпивкой за сдвинутыми столами, где сразу находились новые Шишкины и даже Верещагины, современные Брусиловы, а позже и Суворовы с Кутузовами.
Туз не любил побоищ, а рукоприкладство признавал лишь нежное, обхаживая с деловым прицелом мажордома Нинель Ненельевну по прозвищу капитанша. Она вела особый вахтенный журнал, куда записывала количество выпитых в долг рюмок. Нинель доверяла Тузу, давая ссуды без процентов. Даже нетрезвым взглядом различал он издали ее грудь с золотыми галунами в виде якорных цепей, которые каждый вечер ритуально трогал пальцем. Если промахивался, Нинель подбирала его и отвозила к себе домой.
На животе у нее была вытатуирована трехмачтовая шхуна и шаловливый двухвесельный ялик на попе. Впрочем, под песню Глории Гейнор «Я выживу» она лежала задумчивая и отстраненная, точно кормчий, размышлявший о судоходстве в опасных водах.
«Ты так похож на одного боцмана, утопшего в Карибском море», – сказала как-то с чувством. И Туз тогда понял, что все они, эти чувства, пошли, видимо, когда-то на дно вместе с тем боцманом. Он постарался вытащить их на поверхность, так взволновав ее и взбуробив, словно Тихий океан циклоном «Эль Ниньо», и одолел-таки Нинель девятым валом.
Она ахала, сама на себя дивясь. «Ах, прямо в райское яблочко – в белый мой налив! Угодил! Останемся сегодня дома. Я ведь не какая-нибудь там холодная котлета»…
Позвонив официанту Адольфу, сообщила, что приболела, а потом прослезилась: «Быть тебе в раю за твою доброту! Теперь, пожалуй, перетрахаю всех художников, а затем и штабистов!» Даже спросила, с кого лучше начинать – с живописцев, графиков или скульпторов? Так что Туз не жалел об усердии, надеясь на еще более щедрые ссуды и списание старых долгов.
Подчас волны его исходили эдак самопроизвольно, безнадзорными кругами, захлестывая кого ни попадя, вроде Адольфа, известного во всех московских домах небесной голубизной. После двенадцати, когда ресторан закрывался и оставались самые надежные заговорщики, чинный Адольф сразу оборачивался добрейшим Адиком, выходившим с кухни в одних лишь плавках и «бабочке», но с полным подносом недоеденного и недопитого.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: