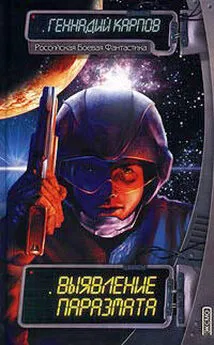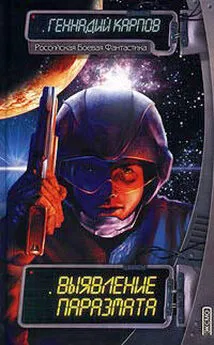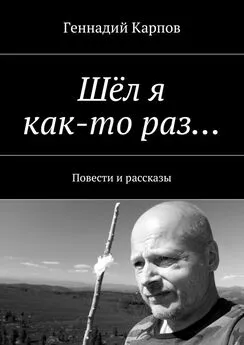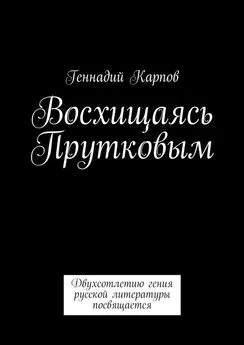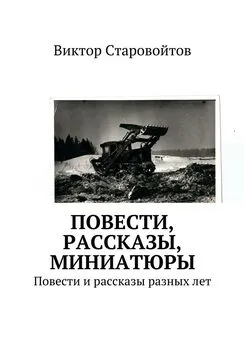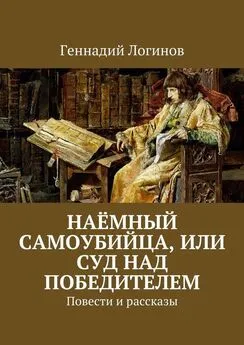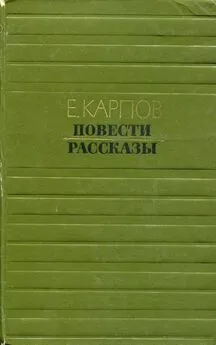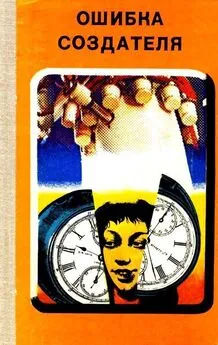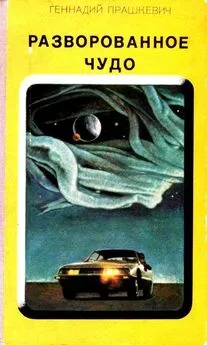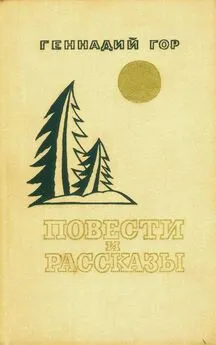Геннадий Карпов - Шёл я как-то раз… [Повести и рассказы]
- Название:Шёл я как-то раз… [Повести и рассказы]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785447450649
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Карпов - Шёл я как-то раз… [Повести и рассказы] краткое содержание
Шёл я как-то раз… [Повести и рассказы] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
5
Шёл я как-то раз с радиометром на шее по Большемуртинскому району Красноярского края с целью замеров уровня радиации в очередном шурфе, который за день до этого выкопал Николай Николаевич Коновалов, горняк Назаровской партии Красноярской геологосъёмочной экспедиции, или ГСЭ. Рытьём шурфов в нашем отряде занимались двое: вышеупомянутый Коляколя и Вася Шакун. Ещё присутствовали начальник отряда, повар Паша, водитель ЗиЛ-157 Володя с этим самым ЗиЛом, и я. В мои обязанности входил отбор различных проб, шлихование (Промывка грунта в специальном лотке на предмет обнаружения тяжёлой фракции, в которой может оказаться всё что угодно от гематита и золотых самородков до картечи и медных монет-полушек восемнадцатого века.), таскание рюкзаков, заготовка дров для кухни, ношение воды в баню, а также замеры радиации коренных пород, докопаться до которых – и есть цель любого горняка, роющего шурф. Замеры эти вошли в обязанности всех геологических партий с тех пор, как над Хиросимой американцы взорвали атомную бомбу, и товарищ Сталин, посовещавшись с товарищами Берией и Курчатовым, решил не ударить перед империалистами в грязь лицом. Стране потребовались радиоактивные материалы. При ближайшем изучении оказалось, что таковых – великое множество, и далеко не из каждого можно сделать бомбу. Поэтому все или почти все геологи, куда бы их ни послала Родина, должны были иметь на шее радиометр и делать замеры радиации в каждом маршруте, каждом шурфе и каждой канаве. Вся информация об уровне радиации записывалась в специальный журнал, и по окончании сезона передавалась в специальное управление при министерстве геологии. А там умные дядьки отделяли зёрна от плевел и решали – что достойно внимания, а что – нет. Допустим, пара всплесков радиоактивности, что зафиксировал лично я, вряд ли их заинтересовали, хотя меня напугали изрядно. Ну ещё бы: бьём линию шурфов из двадцати пяти штук, и в двадцати ямах значения – десять микрорентген в час. От силы – двенадцать. Спрыгиваешь в двадцать первый шурф – сорок микрорентген. В следующем – сто, далее – двести, сто и сорок. Чернобыль тогда ещё взрываться и не думал, о радиации народ знал только из фильмов про послевоенную Японию, но из шурфа, где радиометр СРП показал больше двух сотен, я, помнится, выскочил без помощи рук, едва отколов пару кусков гранита со дна на силикатный анализ и выкинув в траву упавшую ночью в шурф ящерицу. Калий, конечно, не уран, но осознание того, что тебя облучают в двадцать раз сильнее обычного, бодрит чрезвычайно.
Однако рассказать я хотел не о глобальном, а о Колеколе. Коновалов выглядел классическим советским бичом. Зимой он жил в какой-то общаге и зарабатывал на жизнь тем, что копал могилы на городском кладбище. О своём существовании зимой советский геологический бич рассказывать не любит. Потому что человек он хоть бывший, но интеллигентный, а всё, что зимой с ним происходит – происходит как во сне. Потому что трезвым в это время года бич бывает редко. Руки у таких людей, как правило, золотые, и на бутылку водки заработать – не проблема. Поэтому к весне вид у них такой же, как и запах. С первыми лучами весеннего солнца бичи с почерневшими лицами, на трясущихся ногах начинают подтягиваться в отделы кадров различных геологических организаций. В апреле-мае уезжают в тайгу, где без водки да на свежем воздухе быстро входят в форму, набирают вес и перестают жаловаться на боль в желудке.
Коляколя копал могилы на Бадалыке. Как у любого советского предприятия, у этого кладбища тоже имелся план: двадцать пять покойников в месяц. На законный вопрос персонала – как перевыполнить пятилетний план и получить звание ударника соцтруда? – директор хитро улыбался и пожимал плечами: мол, идите с топорами в ближайшую деревню. Вообще, на кладбище Коновалову жилось так хорошо финансово, что к весне он начинал ловить под кроватью зелёных человечков. Несколько раз его отправляли лечиться, но лучшего профилактория для алкаша такого рода, чем геологическая экспедиция, видимо, не существует. Летом, с началом полевого сезона, он устраивался в ГСЭ горняком и копал те же могилы, но с другой целью. Невысокий, жилистый, бородатый, редкозубый, с пожелтевшими от курева усами. Немногословен, опытен в тайге, уважающий начальство, но изредка даже в тайге уходящий в классический русский запой. Зарабатывали горняки с кубов: чем больше выкопал, тем больше получил. Поэтому у каждого уважающего себя горняка имелся свой инструмент: кайло, подборная и штыковая лопаты, который ездил с ним из сезона в сезон. Для лопат работяги делали специально изогнутые черенки из берёзы, кончики кайла перед сезоном оттягивали и закаляли, превращая на пару вечеров кухонный таган в настоящую кузницу. Двое наших горняков – Коновалов и Шакун – работали примерно одинаково, на совесть, поэтому для упрощения расчетов начальник считал общие кубы, а потом сумму делил на два. Кубов оказывалось столько, что бухгалтерия, открывая отчёт за месяц, выпучивала глаза и заявляла, что человек лопатой столько выкопать не может, и начальник занимается приписками, а это уже тянет на статью. Но, узнав, что это не просто горняки, а Коновалов и Шакун, только говорили: «А-а-а, ну тогда вопросов нет!» и смело писали в графе зарплата цифру 400.
Отряд на «крокодиле», как мы называли наш ЗиЛ, заезжал по старой лесовозной дороге в какую-то глухомань, где мы и ставили лагерь. Желательно – ближе к речке или ручью, хотя пару раз приходилось таскать воду за километр – болотистый грунт не позволял подъехать ближе даже при наличии на нашем вездеходе лебёдки. Мы протаскивали машину с помощью лебёдки через пару луж размером с футбольное поле, но в итоге останавливались перед каким-нибудь жутким болотом, кишащим головастиками и комарами, понимая, что дальше хода нет. Ставили три палатки, брезентовый навес в качестве кухни, стол из четырёх тёсаных досок и закидывали на дерево антенну рации – вот и всё хозяйство. А воду из ближайшего ручья возили в канистрах, навьючив их на старенький велосипед «Урал». С утра пораньше повар варил кашу и чай, горняки завтракали и шли копать шурфы. Линию для них, или профиль, мы с начальником заранее тщательно размечали, прорубая топорами целые просеки и отмечая колышками места будущих шурфов. Я вставал позже горняков, таскал дрова, возил воду, ходил со спиннингом на речку, дабы разнообразить меню отряда жареной щукой или ухой из окуня. Если требовалось – ходили в маршруты. А когда Вася с Колейколей выкапывали несколько шурфов – шли на линию брать пробы и делать замеры там. Вечером народ собирался на кухне, ужинал, курил, штопался, стирался. Слушали радио. У нас с начальником отряда, который по совместительству являлся моим папой, палатка была своя, у горняков, повара и водителя – своя, в третьей размещался продуктовый склад, в котором мы иногда обедали, если на улице лил дождь. Общались мы с Колейколей поначалу не очень, да оно и понятно: ему было за пятьдесят, а мне – шестнадцать. Видок у него был, конечно, аховский: Коляколя почему-то не любил мыться. Палатка в качестве бани у нас бывала не всегда, но даже когда лагерь стоял рядом с речкой Большая Кеть, в которой можно было спокойно мыться – Коляколя делал это не чаще одно раза в две недели. Духота в июле стояла жуткая. Мы потели, как собаки в корейском ресторане, даже лёжа в открытой палатке на спальнике. Приходя из маршрута, я сначала шёл на речку, а уж потом на кухню – до самого себя было противно дотрагиваться, так роба промокала от пота. А снять её было невозможно из-за постоянного облака мошкары, вившегося над любым теплокровным. (Как-то раз повар застрелил капалуху, общипал и положил на кухонный стол. Через пять минут бедная птичка скрылась под слоем огромных полосатых комаров, облепивших безжизненное тело.) Коляколя то ли не потел, то ли зимой жил в таких условиях, что уже не обращал внимания на то, что он потный и грязный, но мыться не любил категорически. После работы, садясь за стол, он просил кого-нибудь плеснуть ему на руки. Смывал с них глину и песок, разик плескал водой в лицо – вот и вся процедура.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Геннадий Карпов - Шёл я как-то раз… [Повести и рассказы]](/books/1148035/gennadij-karpov-shel-ya-kak.webp)