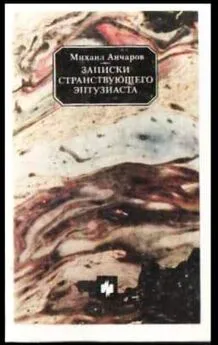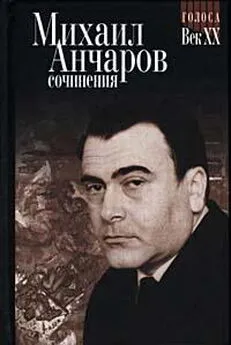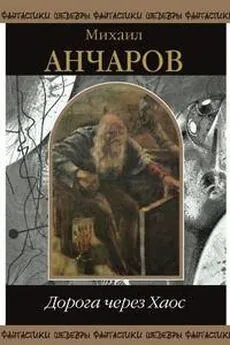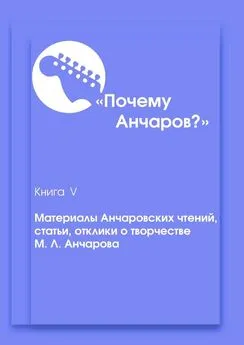Михаил Анчаров - Записки странствующего энтузиаста
- Название:Записки странствующего энтузиаста
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1988
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Анчаров - Записки странствующего энтузиаста краткое содержание
«Записки странствующего энтузиаста» — роман Михаила Анчарова, завершающий его трилогию о творчестве. Если в «Самшитовом лесе» (1979) исследуются вопросы научно-технического творчества, если роман «Как птица Гаруда» (1986) посвящен творчеству в области социального поведения, то «Записки странствующего энтузиаста» — это роман о художественном творчестве. Он написан в нетрадиционной манере, необычен по форме и отличается страстностью в отстаивании наших идеалов и оптимизмом. В этом романе причудливо переплетаются лирика, сатира, тонкие оригинальные наблюдения и глубокие философские размышления о сути искусства. Кроме того — это еще и остросюжетный роман-памфлет, в котором выделяется как главная и важнейшая проблема — борьба против термоядерной угрозы.
Записки странствующего энтузиаста - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И это был не стиль, не манера. Световые «переломы» он видел в самой натуре. А значит, световые «переломы» — это иной взгляд на вещи. Это было пророчество всей дальнейшей живописи. И не только живописи. Это было мировоззрение. И не только оно. Это было превращение его в дело.
Я тогда не так отчетливо про все это думал, но я уже видел — это так. Я видел, как Леонардо да Винчи, выдумщик машин, перешагивал через них и восходил к человеку, светом вылепляя то, каким он может стать. И тут я заметил нечто, чему не поверил даже.
Случайно я обратил внимание на табличку под картиной. И после названия «Мадонна Лита» и подписи «Леонардо да Винчи» в скобочках стоял знак вопроса. Маленький такой, житейский знак вопроса, который означал, что кто-то сомневается, что Леонардо да Винчи писал эту картину. И наверно, он приводил доказательства, и, может быть, даже алгебраические — всякие там года, и даты покупок, и имена владельцев, доказывая свои права на этот вопросик и на эти скобочки. В то время как достаточно было просто смотреть на картину, и становилось ясно, что, кроме Леонардо, ее попросту некому было написать. Некому.
Забегая вперед, скажу, что я потом много и долго орал против этого вопросика и этих скобочек, потом я узнал и очень скоро, что этот вопросик в скобочках наконец-то убрали те, кто видел, а не занимался выкладками. Я долго тешился, что, может быть, их убрали потому, что я орал, что, может быть, это была последняя капля. Но потом я утешился более простым объяснением — сами дозрели. Но я горжусь, что в этом участвовал.
А сейчас я стоял, и меня малость колотило. Это потом чувства, или, как их величают, эмоции распадаются на два внешних проявления: на смех и слезы, или, если хотите, на смех сквозь слезы, как придумал Вийон, а потом многие повторяли. А покамест меня бил, я бы сказал, непроанализированный колотун. И дико хотелось курить. Как мог быстро, я помчался в курилку, скользя на натертом паркете, делая хоккейные виражи и огибая острова экскурсантов, которым сообщали век, школу художника, кто с кем боролся и в каком стиле, и кто на ком был женат. Слава богу, курилка! Дым, дым. Я курил, и меня отпускало. То, что я нашел, было неизмеримо больше того, что я потерял. Есть великое искусство! Суверенное! Ничего с ним не сделаешь!
И мы, взяв у Ольги Андреевны свои билеты, вошли в свой вагон.
Перрон был высокий, и мы не поднимались по ступенькам, а просто шагнули.
Чутье мне подсказывало, что на этот раз поезд идет в нужном направлении.
Глава вторая. Бессмертная обезьяна
Дорогой дядя!
Когда они начали входить в вагон и стали идти по коридору, отыскивая свои купе, я подумал: «Господи, я же их никого не знаю».
Останин стоял в дверях купе, а я спиной к коридорному окну. Все шли, протискивая вперед чемоданы, и Андрей Иванович со всеми здоровался, он-то всех знал. Ну, ничего. Всего трое суток, и потом я повидаю новые места. Я никогда не был в Тольятти.
- Здравствуйте… Здрассте… Очень приятно…
Кому-то кланяюсь, с кем-то обменялся взглядами, с кем-то познакомил Останин.
- Познакомьтесь… Это Панфилов.
- Очень приятно.
А я стою спиной к окну и опять чувствую идиотские страдания оттого, что люди идут, а я фактически стою у них на дороге. Я бы, конечно, перешагнул коридор и оказался в дверях купе, но тогда я уткнусь в живот Андрея Иваныча, и мы будем стоять, обнявшись, как какой-нибудь фонтан на сквере, и он будет через мое плечо приветствовать идущих, а я буду глядеть через окно купе на перрон, где идут люди, а я на перроне уже был, и мне там неинтересно.
Потому что я уже еду, еду куда-то, уже второй день еду, все думают, что я стою в коридоре стоящего поезда, а я уже еду, как отцепленный вагон на рельсах, который, если его долго толкать, то кажется, что он стоит на месте — такой он тяжелый и железнодорожный, и как может один человек столкнуть вагон, и рельсы серые от серого неба, и дождь моросит из серых облаков либо на затылок, либо на поднятое лицо, и на серой водокачке сидит серая недоуменная ворона, — и когда ты перестаешь толкать вагон, поняв нелепость своего занятия, ты вдруг, сделав шаг в сторону, видишь, что колеса его, нет, вы не поверите, какие-то особенно чугунные и монолитные колеса его медленно проворачиваются, и вагон уже едет. А ты думал, что только топтался и пыхтел возле него, а вагон уже едет, и теперь его так же трудно остановить, как было привести в движение. И ты идешь рядом с ним, а колеса вращаются все быстрей, и ты еще успеваешь влезть на подножку, и мимо тебя проплывают Прекрасные Серые Поля с Ржавой Прекрасной Травой, и в Сером Прекрасном Небе Летит Смешная Ворона, Недоуменно Всплескивая Серыми Крыльями!
А это наш поезд уже пошел. А это я сижу в купе напротив Андрея Иваныча и парторга, и Останин достает бутылку сухого и еду. А колеса вежливо постукивают. А за окном редкие строения, и высоковольтные провода разлиновали облака и небо нотными строками, и ноты песни еще не записаны, но только песня зреет. А мы уже уехали из Москвы в Тольятти. А я и не заметил. А это не ошибка, что все фразы начинаются на букву «А», и не надо фразы исправлять и разнообразить. А это у меня рот разинут, и я дышу, чтобы не задыхаться, настолько все происходящее прекрасно.
- Гошка, закрой рот, — говорит Андрей Иваныч. — Держи.
И протягивает мельхиоровый стаканчик, хлеб и холодное мясо.
- Гошка, очнись! — говорит Андрей Иваныч. А и он не знает, что я очнулся.
Дорогой дядя!
Что-то там было в молодости, кроме ужаса войны и ужаса вожделений.
Что-то такое, что должно быть сохранено. Что же?
Беззаботность.
Странно, правда? И это при том, как все было, и о чем все помнят.
С фактами на руках и цифрами мне докажут, что отвратительного, жестокого, страшного, несправедливого, смертельного, гибельного было столько-то и столько-то. И я возненавижу.
А потом вспомню душой и не соглашусь.
Было и еще что-то, к чему и сейчас душа стремится.
Память подсказывает — помни, помни. И я помню. А глубинное чувство поет всем доказывающим: «А пошел ты!..»
И я тогда в душе реставрирую, так сказать, не квартиру, где я жил, а ее картину. Я тогда восстанавливаю в квартире то, что меня в ней делало беззаботным. Что именно?
Возможность работать авралами.
Странные вещи я говорю по нынешним временам, уважаемый сосед, когда дай бог ритма добиться и элементарного порядка? Правда? Правда, да не вся.
Потому что речь не о вынужденных уродстве и торопливости, когда латают прорехи. Но и монотонность годится только для робота. И, слава богу, кажется, к этому идет, к робототехнике. А человек всегда в понедельник работает хуже, чем в среду, и дальше начинает ждать субботы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: