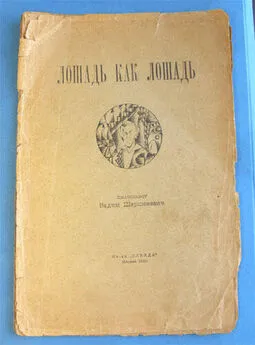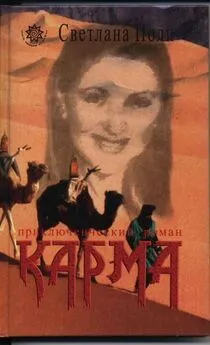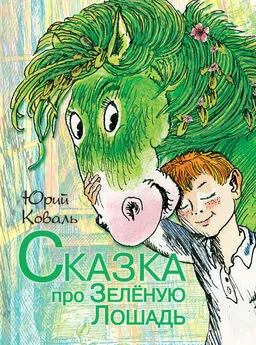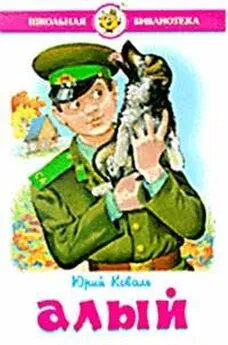Юрий Графский - Как звали лошадь Вронского?
- Название:Как звали лошадь Вронского?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Графский - Как звали лошадь Вронского? краткое содержание
Как звали лошадь Вронского? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Павлинов бежал по проспекту, над ним на бреющем – самолет, садил из пулемета. Рядом, спереди, сбоку падали люди. Какой-то мужик сбил его, свалил под столб. Шептал: “Мне все одно пропадать – тебе жить надо”. Может, только благодаря тому человеку мог он пройти сегодня по этим местам. Только нынче все было по-другому. Прямо на вокзальной площади Павлинов спустился в метро. Как в Москве, с него не спросили билета: показал пенсионную книжку. Через полчаса вылез на Автозаводе, возле знакомого с детства Киноконцертного зала. Был еще более сер, чем дома, с какими-то бетонными набрызгами. По углам, из такого же серого бетона, – характерные типовые скульптуры: шахтер, доярка, очкарик-инженер. Именно здесь Павлинов пятнадцать раз смотрел “Чапаева”. Доднесь помнил, как шли пьяные каппелевские офицеры со штыками наперевес. А навстречу, с саблей наголо, в развевающейся бурке вылетал из-за холма Чапаев, обернувшись в порыве назад, увлекавший за собой конногвардейцев. И, конечно, была мечта – стать хоть чуточку похожим на Чапая. Лететь в крылато развевавшейся бурке. Павлинов, когда они играли в Чапая, тоже вылетал из-за беседки (была такая на площадке детского сада, куда он ходил), с палкой (шашкой) наголо, в развевавшемся наподобие бурки вывернутом наизнанку халатике. Гос-споди! Когда это было? Давно истлел халатик, полысели, а может, отдали Богу души мальчики, с которыми выбегал из-за беседки. Но и сейчас помнил ощущение радости, воли, которые вырастали за плечами вместе с жалкой холстиной. Мир был раздвинутый, светлый: много воздуха, белесого неба. Ничего еще не начиналось.
Казалось, жизни не будет конца. Как не было предела полету Чапаева, когда он выскакивал из засады. Кончилось, правда, это довольно быстро. Выяснилось, что юный Чапай боялся уколов. Не мог представить, что сам, добровольно, позволит игле войти в сокровенное тело. Спрятался от врача в ящик, где висели вещи. Его и нашли там, стоявшего в деревянном пенале: не мог вымолвить ни слова. Никто
(даже отец, которого вызвали из цеха) не мог уговорить его добровольно подставить спину под шприц. Только после этого он уже не смел надеть халатика, вывернутого наподобие чапаевской бурки. Зато началось увлечение музыкой. Павлинов руководил удивительным оркестром. В нем были только редкие, подручные инструменты.
Приимчивый, с нежным звоном треугольник, глиняная, разрисованная глазурью окарина, ксилофон, цитра. Павлинов не знал ни строя, ни нотной грамоты – звучание определял исключительно на слух.
Показывал, кому и как вступать: мелодия перетекала от бирюльки к флажолету. Дрожала легким тремоло крумхорна, рассыпалась четким пунктиром бубна, опадала вздохами тимпана. И, конечно, был голос: пела руководительница группы, полноватая хохлушка Оксана Федоровна.
Вскидывала голову с белокурыми кудряшками, вступала по знаку павлиновского карандаша (заменял дирижерскую палочку):
“И-извела…”. “Извела меня кручина”, – подхватывал чистой второй маленький Павлинов. “По-одколод…”. “Подколодная змея”, – заканчивал он. “Догора-ай”, – вытягивала сопранное пиано женщина.
“Гори, моя лучина”, – низко вторил Павлинов. “До-огорю-у с тобо-о-ой и я-а-а-а”, – пели в строгую терцию. Женский голос переплетался с мальчишеским фальцетом, словно договаривался о чем-то. Позже, учась в университете, Павлинов пел в хоре московских студентов. Как, вспоминал он, раскачивался вместе с другими ребятами в вальсе
“Амурские волны”, великолепно поставленном Владиславом Геннадиевичем
Соколовым. А начиналось все с Оксаны Федоровны. Павлинов хорошо помнил – она обнимала его: ходила по группе между столами, за которыми что-то клеили, рисовали другие воспитанники. Прижимала его голову к бедру – там что-то перекатывалось под его щекой, живое и теплое. Шептала: “Мальчик мой, скуярый!”
“Гос-споди! – думал он. – Поди, Майка-то с Юной тоже были тогда, в детском саду”. Хорошо помнил тех сестричек. Старшая – Юна – была его ровесницей. Майка – годом моложе. Ему, помнится, нравилась Юна, с тонкими губами, интеллигентно сдержанная, чуточку отстраненная.
С интересом наблюдала неистовства младшей: Майка буквально преследовала его. После каждого концерта требовала, чтобы Павлинов дарил ей свежую программку. Главным в Майке были губы, граммофонные, трубой. Можно сказать даже так: губы перевешивали всю остальную
Майку. Настигала его в умывальнике, раздевалке и, если рядом не было никого, безжалостно целовала, стремясь обязательно прокусить щеку или шею. Это, судя по всему, действовало на флегматичную Юну.
Однажды в тихий час (спали рядом, на раскладушках, похожих на козлы, обтянутые полотном) она разбудила его. Шепнула: “Пойдем со мной!”
Павлинов, не до конца проснувшийся, не мог понять, чего от него хотят. Девочка проскользнула между кроватями, выглянула в коридор.
Не отпускала его руку. Убедилась, что никого из воспитателей нет, затянула в уборную. Закрыла дверь, подняла рубашку. Спросила, не хочет ли он посмотреть, как она писает. Для него это было внове. Не отказался. Она присела над горшком. Потребовала: “Теперь ты”.
Павлинов исполнил сказанное. Вылили горшок за собой, благополучно вернулись в спальню. Павлинов видел – она о чем-то неотступно думала: лицо розовело, процесс шел бурно, напряженно. Наконец, приблизила яркие, разъятые откровением глаза: “Знаешь, а ты своей пиписькой мог потрогать меня!”
Стоял за Киноконцертным залом: теперь здесь шумел настоящий сад. А когда-то они сажали первые деревья. Нынче росли груши, яблони. Тени ложились под ноги. Павлинов помнил это место: был пустырь, где проходили занятия по физкультуре. Их, как и все уроки до четвертого класса, вела Татьяна Николаевна. Павлинов и сейчас помнил тот кросс, когда он пришел одним из последних. На следующий день прочитал в стенгазете стихи о себе, сочиненные учительницей: “Он на лыжи стал умело и, приладивши ремни, впереди летит он смело у того, кто позади”. Он уже тогда мог толково объяснить, что слова “позади” и
“ремни” не рифмуются и “позади” – не лучший русский оборот. Но и тогда не понимал, как это – бежать впереди тех, что сзади? Главное же было в другом: как и за что топтать человека, которому и так не везло? Ему и без того худо, а его добивают. Уже тогда утлым, молочно-восковой спелости умом понимал – люди за что-то мстили ему.
Пропускали мимо глаз то, что он делал хорошо, может быть, даже лучше их, и ставили, как лыко в строку, каждую оплошку. Радовались, словно это что-то добавляло им. Почему? Что он им сделал? Тем же своим домашним, которым от него всегда был только приварок… Остановился посреди шпалерника: посаженные рядами деревья переходили в вереск, можжевельник. Вставали впереди, истаивали пепельными султанами сухостоя. Подумал – здесь наверняка можно ходить сутками, и каждое мгновение будет взрываться воспоминаниями. Надо, пожалуй, сначала устроиться.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: