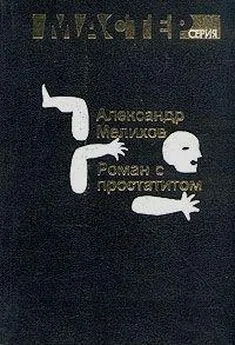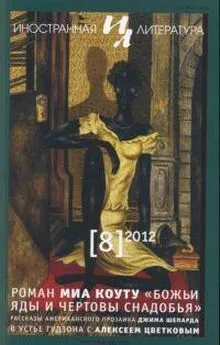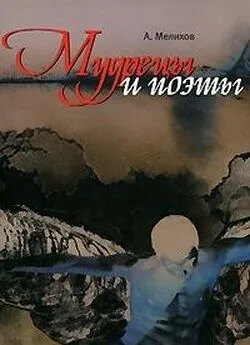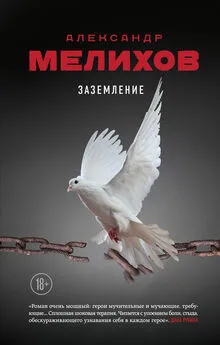Александр Мелихов - Роман с простатитом
- Название:Роман с простатитом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мелихов - Роман с простатитом краткое содержание
Роман с простатитом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако и вырваться можно было лишь ценой новой подлости. Но клянусь, эту полсотню я принял, только когда почувствовал, что иначе я раню (я намеренно не ищу более нейтрального слова) ее еще больнее. Вот только до сих пор не могу себе простить, что в знак благодарности послал ей стольник, а не что-нибудь заведомо бесполезное, что могло служить исключительно знаком, а не платой, ибо всякое бескорыстное движение души неоплатно – абсолютно без всякой связи с принесенной пользой: наши души должны сообщаться без участия лакеев – матфактов.
И не буду валить на мою тогдашнюю очумелость – самоупоению она небось не помешала, жажде широкого (дирижер, запускающий
Бетховена) жеста: как же, прилетел из тайги, с золотишка, при бороде и деньжатах… Под бородой вся шкура была в болячках: я во сне расчесывал то, что мошкара разъедала за день, и просыпался с кровавыми руками таежной леди Макбет, долго борясь со страстным желанием драть лицо когтями под каторжный храп коллег-старателей.
К бараку тайга подходила именно стеной – без смягчающей, нами же и содранной опушки. Мы со своими озверелыми бульдозерами и адским лязгом драг, подобно современному масскульту, обращали в грязь неизмеримо больше чистой, проросшей нежными нитями земли, чем добывали из нее золотых искорок. Но даже их даже нам не хватало сил пропить дотла. Сделать это было тем труднее, что напитки до нас добирались исключительно экономичные, вроде
“Тройного” одеколона, – но лично я мог работать разве что на высокооктановых “Лесных водах”, под струйкой ленской воды тоже обращающихся в разведенное молоко, но по крайней мере без бьющего навылет аромата.
Вот бражку из бельевого бачка я хлебал со всеми заодно. Ее деликатесные сорта добывали – словно в некоем императорском
Китае – денно-нощным взбалтыванием, выделяя из бригады спецдежурных с сохранением полного оклада жалованья, покуда анонимный мудрец, чтоб работе помочь, не заменил человека стиральной машиной.
Мозг стискивали судороги, но я был неумолим: “Все равно буду пить, буду, буду!” Трое коллег, расположившихся рядом со мной вдоль круглой стеночки игрушечного, но пронырливого самолетика
(нежное донышко вот-вот хрустнет под нашими сапожищами), держались того же мнения. Они тут же раздавили по флакончику
“Тройного”, именуемого почему-то “Дюшесом” (у нас на прииске даже в сортире все естественные миазмы безжалостно подминал запах парикмахерской). Потом вспомнили анекдот про поддававших в самолете сумасшедших и, помирая со смеху, полезли открывать люк:
“Пошли бутылки сдавать!” На дружный бабий визг явился элегантный пилот, но братва ринулась уже в кабину: “Мужики, дайте порулить!” Летчики успели забаррикадироваться и устроили нам
“американские горки”. После девятого пике извергнул парфюмерный фонтан даже самый стойкий из нас, а к посадке валялись полутрупами в благоухающих лужах и правые, и виноватые.
Из кутузки я вышел очистившимся – вот тут-то и размахнулся стольником… Сейчас бы я сумел попросить прощения, но – Мисюсь, где ты?
И на Тихом океане… Конечно, если забыть, что это Тот Самый,
Великий… И не искать в извивах ветвей и острогорбых спинах островов, уходящих за горизонт растянувшимся стадом, сходства с японскими гравюрами, тогда и дробленый кирпич в прибое не составит столь пленительной мозаики, и дохлая медуза так и останется тарелкой тугого вишневого киселя.
На работу меня не принимали, поскольку я пробрался в погранзону без пропуска, – и слава богу: академка уже поднадоела мне диктатом ежеминутных материальных забот.
Чтобы понять, что такое МОСКВА… опять глупость: не понять – чтобы создать ее образ, нужно прокантоваться счастливым сталинским детством на звонко-ржавой Механке. И отфильтрованный более престижными поездами ночной вокзальный люд был чем незатейливей, тем восхитительнее: среди потертых, помятых, небритых и пьяненьких я чувствовал себя особенно уютно -
Гарун-аль-Рашид в рваном плаще со сверкающей отсебятиной изнанкой.
И поезд – сидячий, от всех отставший, еле ползущий – тоже очень тонко оттенял вечную сплетенность прекрасного с нелепым. Я сидел на площадке, свесив ноги в ночной ветер, упиваясь малиновыми, сиреневыми, фиолетовыми разливами с последних донышек белых ночей, обалдевая от зубчатой сказочности елей, все так же гениально контрастирующей с заурядностью мелькающих полустанков.
Спать в самолетном кресле мне не позволяли колени и восторженное возбуждение. Но как-то незаметно заря стала распоясываться в жару, и поезд начал, то есть продолжил, ползти как полудохлый, и явилась неприязнь, то есть зависть, к людям, способным спать то каменея Пизанской башней, грубо подпертой в бок подлокотником, то вытекая из кресла перестоявшимся (переходившимся) тестом, – иссякла отсебятина, началась скука. Я побрел вагонами и наткнулся на купе, заставленное башенкой неструганых деревянных ящиков с липким портвягой. С патриархальной простотой за рубль тебе наливали граненый немытый стакан и вручали карамельку. Я выпил, чтоб хоть чем-то себя занять. И очень скоро обнаружил, что пялиться в окно и слушать, как гудят колеса, – совсем не скучное занятие. Гудение то повышалось, то понижалось – и вдруг я разобрал, что это необыкновенно красивый мужской хор. Ммм…, ммм… – гудели басы то выше, то ниже с такой всеохватной наполненностью, словно ты сидишь в чреве могучего неспешного колокола. Когда поезд набирал ход, к басам присоединялись небесные тенора – мелодия возникала безыскусная, но такая дивная, что, знай я нотной грамоте, этот хорал облетел бы концертные залы всего мира.
И все же преображающая низкая химия – это не высокая преображающая отсебятина: пьянство – тоже подчинение духа материи.
“ЛЕНИНГРАД”, – вздрогнул я от графической красоты этого слова.
Я еще над уральскими речками предвкушал, как, смакуя, побреду
Кузнечным переулком мимо Кузнечного рынка, мимо пышущих значительностью совковости, занюханности, криминогенности – к гордой Фонтанке, заплаканной, как мы в Байрам-Али, известкой из гранитных стыков с раскустившимся там безалаберным бурьяном.
Потом – облокотиться на узор чугунный и замлеть от свободы свернуть направо – к Аничкову мосту или налево – к дому
Державина. Но близ дома Говорухи-Отрока меня задержала особенно колоритная сценка: под аркой, отворотясь к стеночке, мочился парень в модной тогда красно-оранжевой рубахе, укрепленной на спине круто выгнутыми шпангоутами складок, а его приятель, столь же ослепительный, широким радушным жестом пытался остановить девчонку, торопящуюся, отворачиваясь, процокать мимо, не измочивши каблучков. “Мужики…” – попытался я воззвать к их вкусу – радушие, мол, отдельно, а мочеиспускание отдельно. В мире, исполненном значительности, я утрачивал и страх и злость: мне казалось, что всеми нами владеет единое чувство: “А что же дальше?” – в таком обалденном, опупенном спектакле кто же возьмет роль злобной алчной сволочи!..
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: