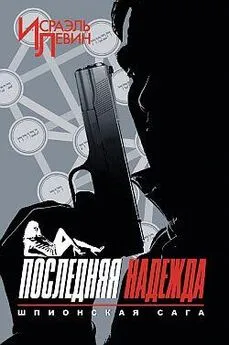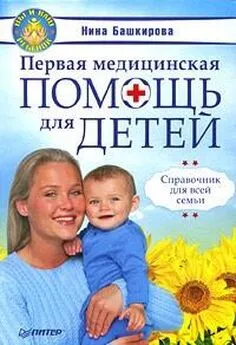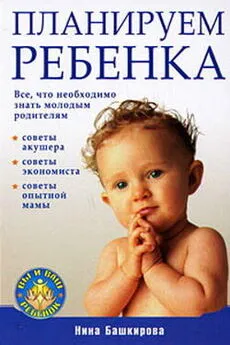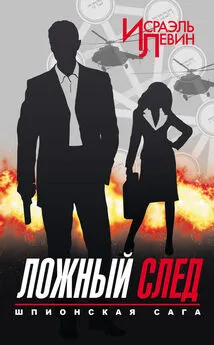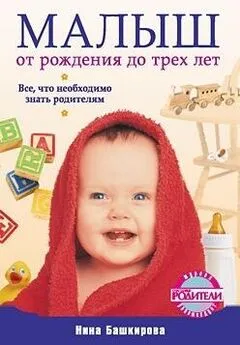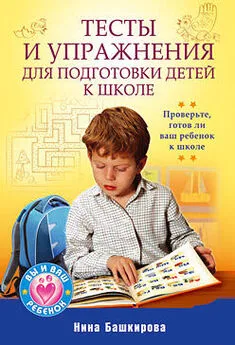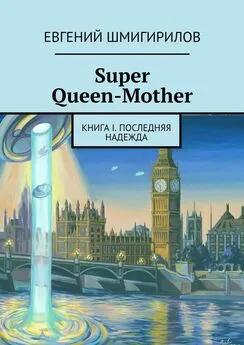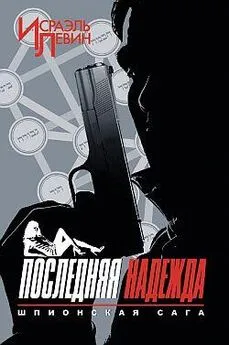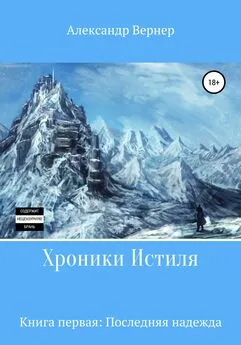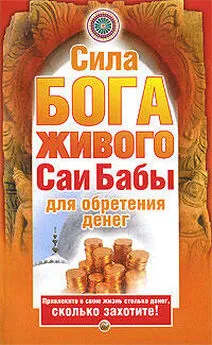Нина Башкирова - Последняя надежда. Шпионская сага. Книга 1
- Название:Последняя надежда. Шпионская сага. Книга 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:неизвестен
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-058413-0, 978-5-271-23348-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Башкирова - Последняя надежда. Шпионская сага. Книга 1 краткое содержание
Действие остросюжетного романа разворачивается в наши дни. Леонид Гардин, бывший сотрудник КГБ, прошедший двойную вербовку, живет в Израиле. Официально он числится умершим и живет в стране под чужой фамилией, пройдя пластическую операцию. Принимая участие в секретном расследовании, он выходит на тайный Орден Хранителей, ведущий свою историю со времен Средневековья. Подавляющее большинство событий, описываемых в книге, имеют реальную основу.
Роман – настоящий подарок для всех, кто любит серьезные детективы, интересуется деятельностью спецслужб и расследованиями политических событий XX века, кого притягивают закулисные тайны мировой политики и истории.
Последняя надежда. Шпионская сага. Книга 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Двухэтажный корпус работал в особом режиме. Если при входе в институт дежурили гражданские охранники, то это здание охраняли солдаты, и зайти сюда без специального пропуска не представлялось никакой возможности.
Так или иначе, но моему присутствию в лаборатории никто не удивился. Начальник охраны, симпатичный, общительный полковник в отставке, познакомил меня с сотрудниками лаборатории и выдал для ознакомления их личные дела. Я принялся за работу. Почти все биографии выглядели на редкость однообразно: Московский или Ленинградский/Санкт-Петербургский университеты, поступление на работу, аспирантура, защита диссертации, иногда не одна, семейное положение, круг друзей, увлечения. Никаких поездок за границу – весь персонал института считался невыездным. Вот, пожалуй, и все, о чем говорили отметки в личных делах.
Я довольно быстро привык к рабочему дню в десять – двенадцать часов, и дни потекли за днями. В течение нескольких ближайших недель я только и занимался тем, что уточнял сведения из личных дел персонала лаборатории, пользуясь услугами сотрудников режимного отдела. Работать приходилось очень напряженно, так как втайне я искал закрытую информацию о разработках и исследованиях лаборатории. Но не только явных, а даже косвенных следов искомых технологий не обнаруживалось. Еще при поступлении на работу начальник отдела охраны предупредил: часть лаборатории – отдельное здание – работает в спецрежиме и находится под охраной спецподразделения ФСБ. Отдел внутренней охраны института не имеет к этому прямого отношения, в его функции входит лишь обеспечение общей безопасности лаборатории.
Каждый вход и выход в спецздание, включая перекуры, обеденный перерыв или передвижения по территории института, с неизменной строгостью отмечались в журнале. В соответствии с обстановкой секретности вели себя и люди, работавшие «на секретку»: ни один из них не шел практически ни на какой контакт. Их-то я быстро вычислил, благо было таких немного, всего семеро.
Так прошло пять недель. Мои попытки познакомиться с засекреченными сотрудниками успеха не имели: система безопасности блокировала всякую подобную возможность. Любая, даже самая невинная попытка кого бы то ни было попасть в «закрытую зону» немедленно фиксировалась в журнале посещений. Расспрашивать же сотрудников «моей» лаборатории я тоже не мог, поскольку причины, объясняющей мой повышенный интерес к засекреченным сотрудникам, не изобрел. Удалось лишь узнать, что за последние два года на работу не приняли ни одного новичка, за исключением меня. Текучки кадров здесь не наблюдалось, значит, завербовали кого-то изнутри, из ветеранов. Так считал Альвенслебен, а в достоверности его информации я уже убедился.
Единственным местом, где я мог бы «случайно» встретиться с тщательно «опекаемыми» коллегами, оставалась столовая, а за столом всегда что-нибудь незначительное, но все же обсуждалось. То , что мне удалось узнать из обрывков разговоров, только усилило мой пессимизм. Подтвердилось, что большая часть сотрудников института ни разу не бывала за границей и, наверное, никогда России не покинет. В советские времена они даже жили в отдельных домах под постоянным наблюдением службы безопасности. Правда, с соцпакетом дела у них обстояли не так уж плохо: с квартирным вопросом проблем не возникало – для них достаточно активно строили жилье, открыли детский сад-ясли, поликлинику, давали путевки в санатории и дома отдыха… Сегодня почти ничего подобного не наблюдалось, но институт не бедствовал.
Кое-какую полезную информацию из своих «столовских» посиделок я все же выудил. Например, они любили постоянно подтрунивать над неким Валентином Вышевым, талантливым инженером, самым молодым доктором наук в институте. В свое время, как и многих, его пригласил в институт сам Страхов, но среди способных и честолюбивых сверстников Вышев заметно выделялся. При первом же беглом знакомстве я заметил, как коллеги подшучивают над фанатичной преданностью Вышева работе и – что было не менее важно – испытывают его феноменальную память. Валентин помнил, казалось, все мыслимое и немыслимое: автобиографии сослуживцев, политические события последнего десятилетия, результаты футбольных и хоккейных матчей практически всех команд высшей лиги за несколько лет. И конечно же все то, что обсуждалось на всевозможных совещаниях в родной лаборатории. Практически каждую неделю, иногда по два-три раза, находился очередной любитель проверить фантастически необъятную память Вышева:
– А не скажешь ли нам, уважаемый Валентин, о чем шла речь на пятиминутке в канун Нового года два года тому назад и кто умудрился тогда рассмешить нашего шефа?
И Вышев с энтузиазмом, достойным подростка, немедленно вспоминал участников совещания, эзоповым языком пересказывал суть обсуждения и подробности редкого события – смеха высокоученого начальника. Его цепкая, словно липучая лента, память, по-видимому, не желала расставаться ни с одним из малых и больших объектов, единожды попавших в ее анналы. Валентин мог бы служить живым доказательством того, что ни одно из событий, свидетелем которого доводится стать человеку от его рождения и до гробовой доски, не исчезает бесследно, как многие думают, а фиксируются навсегда. Кстати, это правда, ведь физиологически память представляет собой структурное изменение белка в клетке мозга – нейтроне, после чего теоретически всегда может быть востребованным. Теоретически, поскольку реальные человеческие возможности к извлечению из определенного уголка памяти нужной информации в нужный момент весьма ограничены: страшно даже представить, что могло бы случиться с человеческим сообществом, если бы каждый индивидуум нес груз подробностей и деталей всего, что происходило вчера, год или десять лет тому назад…
Вышев, по-видимому, был именно таков. Однажды обратив на него внимание, я практически не отвлекался от наблюдения за любопытным объектом. Исподволь, незаметно, вылавливал фразы, движения и, главное, крупицы информации, из которых – кто знает? – может быть, удастся сварить хоть какую-нибудь кашу. Я быстро изучил его привычки и места, которые он посещал. К сожалению, весьма малочисленные.
Лаборатория, где работал Вышев, располагалась на втором этаже, через две комнаты от меня. Его рабочий стол отличался безукоризненным порядком, все буквально сверкало. Валентин любил свою работу и, будь его воля, вообще отсюда не уходил бы. Он начал работать у Страхова сразу после окончания университета и без лаборатории не представлял своего существования. Вышев был одним из немногих, кто имел право свободно ходить во второе здание, где я побывал лишь однажды, когда знакомился со Страховым. Больше я туда попасть не смог, а Вышев проводил там значительную часть рабочего времени.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: