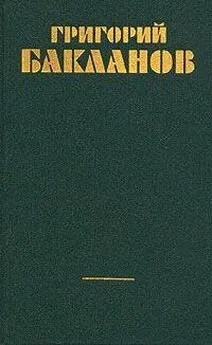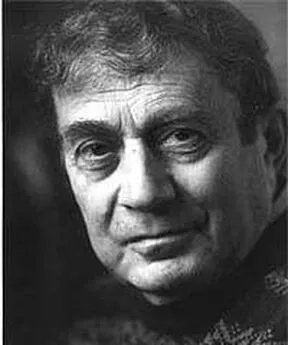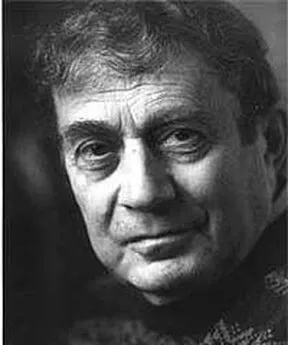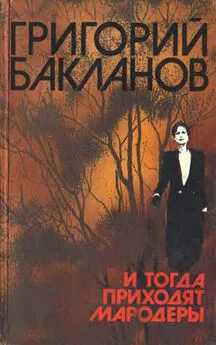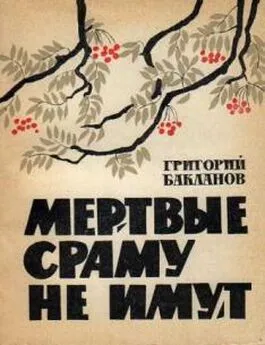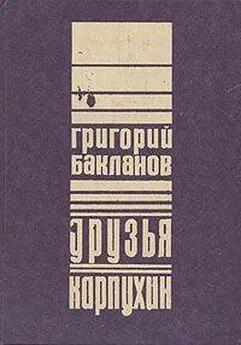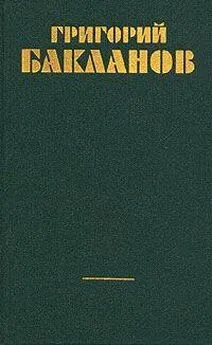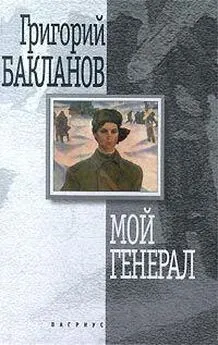Григорий Бакланов. - Кумир
- Название:Кумир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Бакланов. - Кумир краткое содержание
Кумир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тогда, в тайне от меня, уже в сверке, которую автору читать не давали, его вымарали. Прошли годы, и в книге я восстановил его. Вот этим достойным делом, абсолютно в русле сталинской политики, и занят сегодня Солженицын.
Да, он признает, что «пропорция евреев-участников войны в целом соответствует средней по стране.» Но тут же — другой счет: среди генералов Красной Армии евреев, генералов медицинской службы — 26, ветеринарной службы -9, в инженерных войсках служило 33 генерала еврея. На этом счет обрывается, прочтет не сведущий человек, а таких сегодня у нас большинство, и убедится: ни артиллеристов, ни танкистов, ни летчиков, ни общевойсковых генералов — евреев не было. И — вывод автора: «Но как бы неоспоримо важны и необходимы ни были все эти службы для общей победы, доживет до нее не всякий. Пока же рядовой фронтовик, оглядываясь с передовой себе за спину, видел, всем понятно, что участниками войны считались и 2-й и 3-й эшелоны фронта: глубокие штабы, интендантства, вся медицина от медсанбатов и выше, многие тыловые технические части, и во всех них, конечно, обслуживающий персонал, и писари, и еще вся машина армейской пропаганды, включая и переездные эстрадные ансамбли, фронтовые артистические бригады, — и всякому было наглядно: да, там евреев значительно гуще, чем на передовой.» Рядовой фронтовик, оглядываясь с передовой себе за спину, не разглядел бы, где там в обозе а потом во втором эшелоне обретался Солженицын. Тем не менее пишет с обидой в статье «Потемщики света не ищут», что кто-то из журналистов упрекнул его в том, что в добровольцы он не записался. «А я, — пишет он, — как раз-то и ходил в военкомат, и не раз добивался, — но мне как ограниченно годному в военное время по здоровью велели ждать мобилизации.» Свежо предание, да верится с трудом. Хватило здоровья лагеря одолеть, до восьмидесяти пяти лет дожить и только идти на войну, где могут убить, здоровья не хватало. После позорной финской войны по приказу министра обороны Тимошенко гребли в армию всех, окончивших десятилетку. Мой старший брат Юра Фридман как раз окончил десятый класс, а в армию его не взяли: он почти не видел левым глазом. Но началась Отечественная война, и он, студент исторического факультета МГУ, пошел в ополчение, в 8-ю московскую дивизию народного ополчения, был на фронте командиром орудия и погиб на подступах к Москве. Да разве он один. Тысячи, тысячи шли. Мой дядя, Макс Григорьевич Кантор, коммерческий директор одного из московских заводов (ему подавали машину, мало кому подавали машину до войны), уж он-то мог пересидеть войну в тылу, да и был уже в годах. Но он тоже пошел в ополчение, служил санитаром в полку и погиб под Москвой. Я вот думаю: был ли от него на фронте какой — нибудь толк? Вряд ли. Но он поступил так, как повелевала совесть. Кто хотел идти на фронт, шел. Но и дальше в этой статье Солженицын продолжает творить миф о себе: «Из тылового же конского обоза, куда меня тогда определили, я сверхусильным напором добился перевода в артиллерию.» И все-то — сверх применительно к себе: здесь — «сверхусильным напором», дальше увидим — «сверхчеловеческим решением». А что это была за артиллерия и на каком отдалении от передовой она располагалась, разговор впереди. Но для того, чтобы попасть на фронт, никакого сверхусильного напора не требовалось, могу свидетельствовать. После тяжелого ранения, после полугода проведенного в госпиталях — армейском, фронтовом, тыловом, — после многих хирургических операций, я был признан на комиссии не годным к строевой службе, инвалидом, или, как говорили, тогда, комиссован. Но я вернулся в свой полк, в свою батарею, в свой взвод и воевал в нем до конца войны. А вот находиться там, где находился Солженицын, для этого, действительно, требовались определенные качества и сверхусильный напор. Ведь он за всю войну ни разу не выстрелил по немцам, туда, где он был, пули не долетали. Так ты хоть других не попрекай.
Нет, попрекает. В одной из своих статей стыдит покойного поэта Давида Самойлова (на фронте Давид Самойлов — пулеметчик второй номер), что тот недолго пробыл в пехоте, а после ранения — писарь и кто-то еще при штабе. Но сам-то Солженицын и дня в пехоте не был, ни разу не ранен, хоть бы сопоставил, взглянул на себя со стороны, как он при этом выглядит. А выглядел он так: в книге Решетовской напечатана его «фронтовая» фотография: палатка, стол, стул и сам Солженицын стоит около палатки в длинной до щиколоток кавалерийской шинели с разрезом до хлястика, в каких обычно щеголяло высокое начальство. Можно верить и не верить тому, что первая, брошенная жена, пишет про него в этой книге, но фотография — это документ.
Мог пехотный офицер или артиллерист (не говорю уж про солдата) стоять вот так в полный рост средь бела дня? В землянке или в окопе — до темноты. И оправлялся пехотинец в окопе, а потом подденет малой саперной лопаткой да и выкинет наружу, рассчитав, чтоб ветром дуло не в его сторону. Да и что пехотинцу или артиллеристу делать в такой показушной шинели, когда он месит грязь по дорогам и бездорожью? Он полы короткой своей шинели и те подтыкал за пояс. А что подстелит под себя в окопе? Шинель. А под голову? Шинель. А укроется? Шинелью. А у этой, сквозь разрез, звезды видать.
Не по статистике, по своему личному наблюдению, все-таки почти всю войну я пробыл на фронте не пехотинцем, но с пехотой: там, в пехоте, у командира роты и ближе, в траншее, или на высотке, на переднем ее скате, обращенном к противнику, там — место командира взвода управления, корректирующего огонь батареи, так вот по моему наблюдению евреев — пехотинцев в процентном отношении ко всему населению было меньше, чем русских. Не удивлюсь, если окажется, что и русских в процентном отношении к населению было в пехоте меньше, чем, скажем, узбеков, таджиков, киргизов, туркмен. Вот же, повторяю, пишет директор музея «Сталинградской битвы», что под Сталинградом солдаты из Средней Азии и с Кавказа составляли больше половины сражавшихся. А ведь немало из них и русского языка не знали, команды, в том числе — в атаку передавали через переводчика. Таков был и результат. Не потери убитыми и раненными, а — результат. В пехоту гнали, в первую очередь, крестьян. И не нация тут решала, а — уровень образования.
Талантливых людей, самородков, скажем, в русской деревне было, возможно, не меньше, чем в городах, да вот уровень образования отличался. У немцев танкисты были, в основном, не крестьяне, а рабочие, наши «братья по классу».
А у нас к концу 42-го года стали отзывать с фронта сталеваров, в тылу они были нужней чем на фронте. Исследователь, если он действительно исследует, а не искажает историю, не может не понимать всего этого, не знать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: