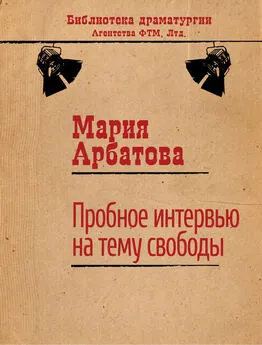Мария Арбатова - Меня зовут Женщина
- Название:Меня зовут Женщина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЭКСМО-Пресс
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-04-003539-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Арбатова - Меня зовут Женщина краткое содержание
Все это произошло со мной только по той причине, что я — женщина. И пока будут живы люди, не считающие это темой для обсуждения, это будет ежедневно происходить с другими женщинами, потому что быть женщиной в этом мире не почетно даже в тот момент, когда ты делаешь то единственное, на что не способен мужчина.
Мария Арбатова.
Меня зовут Женщина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мне очень хреново, и я звоню ему, хотя идет дождь, и говорю, что мы можем встретиться. Мы бредем через черный мокрый центр и азартно говорим о необязательном. Собственно, необязательно все, кроме стекла между нами. Да, собственно, и стекла-то нет. Просто надо делать вид, что оно есть, потому что мы оба — эмоциональные наркоманы.
...В Доме литераторов — а куда еще можно деться вечером, чтобы вокруг не хамили и не стреляли, — вечер молодых дарований, и мы устраиваемся на галерке, на каком-то столе. Он наклоняется, что-то шепчет, его волосы падают мне на щеку, я не могу ответить, потому что синтаксис уходит из-под ног... и мы находимся в таком плотном силовом поле, что пространство скручивается на нас, как горящая с краев бумага к середине. И я не знаю, как управиться со всей центробежной и центростремительной энергией влечения, и вспоминаю про свой литературный мундир, и набрасываю его на одно плечо, хотя шит он для ношения в совсем другие места. И зачем-то начинаю комментировать вечер с цеховым остроумием человека из обоймы, совершенно не сообразив, что Париж — такая же провинциальная литературная тусовка, как, например, Саратов, с той же местечковой этикой убиванья новичков и совковой вседозволенностью паханов.
Я забываю, потому что романтический образ парижской богемы вбит в нас с детства, и та же самая доверчивость, с которой мой спутник стремился к Эйфелевой башне, делает мой тон бестактным и не позволяет увидеть, как холодеют его глаза. А потом разговор сжимается петлями, и вся архитектура отношений лопается, как хлопушка, и рассыпается глуповатым конфетти, и надо что-то отвечать на вопрос, который не может быть задан, — или прощаться. И я говорю без пролога:
— Мне предстоит аборт.
Он молчит какое-то время, ровно такое, чтобы никто не пожалел о сказанном. И от того, что он ответит, зависит не только состоятельность наших отношений, но и последующая человеческая состоятельность каждого из нас, потому что поступки совершаются не только на Красной площади... И он берет мою руку и говорит:
— Собственно, техническая сторона этого вопроса сегодня виртуозна, вы ничего не почувствуете, это не стоит нервного напряжения... Но с точки зрения божественной эстетики, это такой бред, когда женщина в этом кресле, а из нее достают то, что должно стать человеком! Это, безусловно, вызов Всевышнему. Впрочем, я не уверен, что продолжение рода, витальное творчество — высшая задача мужчины и женщины. Задача, но не высшая. Вы страдаете, потому что не хотите принести себя в жертву будущему человеку, которого еще нет, ради себя, уже существующей и сидящей передо мной. Вы страдаете, потому что вы не уверены в том, что у вас есть право решать — быть личностью или только физиологическим приспособлением для продолжения рода. Но оно у вас есть, раз вы решили. Ведь, кроме всего, я надеюсь, вы делаете аборт от нелюбимого. А в идее надругательства над собой ради абстрактного будущего есть что-то от коммунистической морали.
И я получаю такой взгляд, за который... за человеком можно поехать в Сибирь. В Сибирь, но не в Париж. Воспитанные на русской литературе ездят за возлюбленными в Сибирь. В Париж за ними ездят все остальные. И мы сидим в фойе, и какие-то знакомые бесконечно лезут ко мне, и я полувежливо отшиваю их, что, видимо, выглядит как похлопывание по плечу, но я не секу этого, потому что трудно бороться одновременно и с токсикозом, и с людьми, лезущими в наш кубометр воздуха. Потому что мы опутаны наэлектризованными нитками так жарко и так тесно, что нам просто деваться некуда. А тут эти какие-то люди! Глаз у них, что ли, нету? А утром он звонит и холодно:
— Я хотел бы забрать рукописи.
— Сейчас я занята, а по поводу рукописей созвонимся завтра, — отвечаю я еще холоднее и кладу трубку. И подхожу к зеркалу, и вижу женщину, которая сейчас заплачет, и едва успеваю предотвратить это сигаретой. И, как коршун над курицей, кружусь над телефоном и все же набираю номер и ледяным голосом:
— Завтра с двух часов рукописи ждут вас у администратора в Доме литераторов.
— Нельзя ли сделать это при встрече? — спрашивает он после паузы длиной в выкуренную сигарету.
— У меня очень плохо со временем, — говорю я, как «русский царь еврею».
И он начинает орать про то, что не хотел бы путать литературные отношения с остальными, про мой совковый деспотизм, про менторство к тем на вечере, про то, что я все время наступаю ему на язык сапогом, а ему, ему в Париже просто... по-русски поговорить не с кем! И я длинно молчу, потому что, наконец, слышу, что он без кожи, совсем без кожи. И содрали ее в эмиграции или там только соли насыпали — неважно, потому что теперь он нуждается только в том, чтобы его любили. Собственно, все в этом нуждаются, но он при этом не пытается, как среднеарифметический самец, поработить, купить, обмануть и обыграть по очкам. Он честен, как ребенок. И он пугается своей честности и витиевато дает отступную.
— Послушайте, — отвечаю я, — простите меня, хотя я ни в чем прямо не виновата. Я хочу вас видеть. И к дьяволу рукописи!
...И я бегу по Малой Бронной, и за спиной у меня разрывается граната. Ха, ха, ха! Еще бы чуть-чуть! Как говорят в таких случаях. Но я даже не оборачиваюсь, потому что опаздываю на встречу. Я, конечно, не понимаю, что — граната, я думаю, автокатастрофа, потому что воронка улицы у «Макдоналдса» стереофонирует грохот так, что трясется памятник Пушкину, у которого он меня ждет.
— Что это было? — спрашивает он. И я пожимаю плечами. И мы не видим вечерней хроники, и долго еще не знаем, что ранено 9 человек, в том числе ребенок. Мы длинно едем к черту на рога, и какие-то люди все время бросаются объяснять дорогу. Видимо, на нас написано, куда мы едем. Потом оказываемся в комнате, наспех снятой моими друзьями, в которой нет ничего, кроме матраса на полу, трогательного столика и стульев с помойки, расписанных глиняных чашек с фестиваля нового искусства и не специально разбросанных по полу экземпляров моей книжки. И в этом бедном великолепии мы первый раз прикасаемся друг к другу.
И в полном разрушении единства времени, места и сюжета мы, беременная от другого женщина и случайно задержавшийся в стране мужчина, опрокидываемся в такое безумие нежности, что перед ним отступает даже приговоренная к неосуществлению человеческая душа внутри меня. Впрочем, об этом нет сил говорить и думать, потому что есть бред убийства, и бред оправдания, и бред миропорядка, который вынуждает сначала убивать, потом оправдываться, потом убивать себя, не оправдавшись.
Я не верю в абсолютную идею, которая вынуждает абсолютно всегда быть виноватым или бояться стать виноватым, что одно и то же. Вечно несчастная мать может воспитать только вечно несчастного ребенка, вечно несчастного человека может создать только вечно несчастный бог. Зачем мне вечно несчастный бог? Зачем я ему? Всякое единобожие приговаривает женщину к второсортности, а если у меня нет ощущения собственной второсортности, то мое безбожие смотрится фамильярно. Фаллократический бог ставит мне отметки, и я начинаю видеть в нем мужчину с детскими кубиками, который пытается удерживать меня не любовью, а властью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: