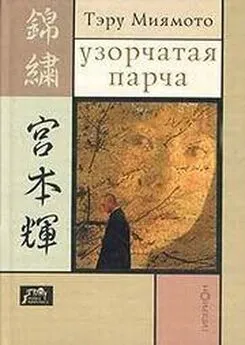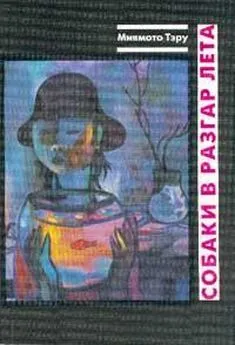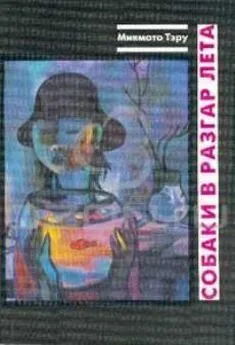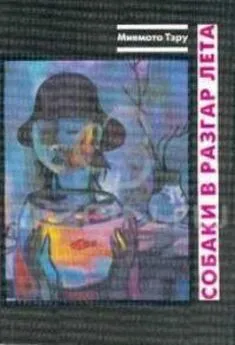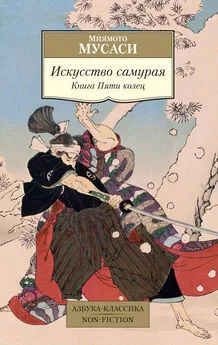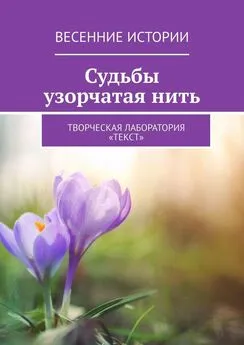Тэру Миямото - Узорчатая парча
- Название:Узорчатая парча
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гиперион
- Год:2005
- Город:СПб.
- ISBN:5-89332-117-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тэру Миямото - Узорчатая парча краткое содержание
Тэру Миямото (род. в 1947 г.) — один из самых «многотиражных» японских писателей, его книги экранизируют и переводят на иностранные языки.
«Узорчатая парча» (1982) — произведение, на первый взгляд, элитарное, пронизанное японской художественной традицией. Но возвышенный слог пикантно приправлен элементами художественного эссе, философской притчей, мистикой и даже почти детективным сюжетом.
Японское заглавие «Узорчатая парча» («Кинсю») можно перевести по-разному, в том числе и как «изысканная поэзия и проза». Слово, чувство, цвет и музыка души, сливаясь, образуют сверкающую, драгоценную ткань подлинно прекрасного повествования...
Узорчатая парча - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Перу Тэру Миямото принадлежат роман «Вечно изменчивое море» (Рутэн-ноуми, 1984 г., первая часть дилогии), роман «Земная звезда» (Ти-но хоси, 1992 г., вторая часть дилогии), роман «Фаворит» в 2 томах (Юсюн, 1986 г.), удостоенный литературной премии Эйдзи Ёси-кавы, двухтомный роман «Стул в степи» (Согэн-но ису, 1999 г.), а также множество других, не менее известных произведений. Тэру Миямото относится к самым «многотиражным» и популярным писателям Японии. Многие его произведения переведены на иностранные языки.
«Узорчатая парча» (Кинсю) была написана в 1982 году, однако внимательный читатель напрасно будет искать в ней реалии, позволяющие определить точное время действия. Хотя в целом понятно, что это XX век, а точнее, его вторая половина. Точно так же придирчивый литературовед столь же безуспешно попытается определить жанр «Узорчатой парчи». Да, спору нет, «Парча» стилизована под переписку двух героев. Значит, роман в письмах? Едва ли… В «Узорчатой парче» столь же явно присутствуют характерные признаки откровенно-пронзительного «ватакуси-сёсэцу» (повествование о себе), изысканно-прихотливого «дзуйхицу» (эссе «вслед за кистью), глубокой философской притчи, женского романа (женская линия явно доминирует), есть даже элементы захватывающего, интригующего детектива, особенно в завязке произведения.
На первый взгляд все достаточно незатейливо, просто. Бывший муж и жена волею случая (или Провидения?) сталкиваются друг с другом в горной глуши, в кабинке фуникулера – и тотчас же расстаются, не сказав друг другу практически ничего. Десять лет назад они развелись, потому что муж героини Акико – Ясуаки Арима – изменил жене, и при этом едва не погиб, якобы при попытке «двойного самоубийства» с любовницей. За прошедшее время угли трагедии подернулись пеплом, покрылись патиной времени, но внутренний жар их еще настолько силен, что при встрече в душе Акико снова вспыхивает яростное пламя, – и она завязывает переписку. Несколько писем от Акико к Ясуаки и несколько писем от Ясуаки к Акико – вот и все короткое повествование. Но в этой не слишком толстой стопке листков столько пронзительной боли и безысходного отчаяния, столько неистовой, безрассудной любви и обжигающей ненависти, столько жалости, мужества, жертвенности и высокого благородства, что другому, менее талантливому писателю достало бы на целую сагу. Лаконичная, но бездонно емкая «Человеческая трагедия». В каком-то невероятном, безумном темпе перед читателем пролетает десятилетие жизни героев – со всеми их взлетами и падениями, с разочарованиями и надеждами, страхами и мечтами. Реальные события переплетаются с воспоминаниями о прежней жизни, о том, что же случилось на самом деле и что послужило истинной причиной развода двух искренне любивших друг друга людей.
Несколько лет работы в рекламном агентстве не прошли бесследно для писателя Тэру Миямото. Неправ тот, кто полагает, что реклама – это презренное ремесло. Реклама (разумеется, хорошая, умелая реклама) – своего рода искусство, сродни работе огранщика драгоценных камней. Это квинтэссенция слова, квинтэссенция образа, ибо цель рекламы – выхватить и осветить мгновенным лучом самые яркие, самые важные грани того, чему она служит. Тэру Миямото – мастер своего дела. Он гранит магические кристаллы слов. Из его книги нельзя убрать ни абзаца, ни даже фразы – иначе прорвется, нарушится драгоценная ткань переливающейся парчи текста. Мгновенный, незримый поворот волшебного кристалла Слова – и мир окрасился в черный цвет беспросветного мрака, отчаяния. Еще поворот – и алое зарево бушующего пожара, безумия и любви затопило страницу… Одно описание алых кленовых листьев, пожалуй, стоит поэмы! Потрясенная неожиданной встречей Акико вспоминает: «…Красным был не весь склон: в багрянце мелькали вкрапления вечнозеленых растений, коричневые листья, золотились ветви похожих на гинкго деревьев. Рядом с ними красный цвет был особенно ярким, он прямо-таки пламенел. Казалось, из смешенья мириадов цветов и оттенков вырываются огромные языки неистового огня. Потрясенная этим зрелищем, я, не в силах сказать ни слова, молча взирала на многоцветье пышной растительности, словно впитывая его в себя. ‹…› Опьяненная неистовством оттенков красной листвы, я ощутила в этом пламени горного леса нечто ужасное, убийственное, словно прикосновение холодного клинка».
Однако повествование Тэру Миямото сверкает и переливается не только гранями слов. Оно буквально затягивает в себя, завораживает философским и литературным подтекстом, уводит в глубины веков, – словно при чтении старой японской поэзии, пронизанной ассоциациями и аллюзиями. Дело в том, что «Узорчатая парча» буквально напитана духом японской художественной традиции, точно губка водой. Собственно говоря, конкретно и прямо об эстетических категориях не сказано ни единого слова, однако читатель, хотя бы немного знакомый с традиционной японской культурой, каким-то шестым чувством непременно уловит присутствие духа Японии, пресловутой японской Души. В подсознании сами собой всплывут вдруг абстрактные, но при этом непостижимо конкретные понятия «моно-но ава-рэ» (очарование всего сущего), «ёдзё» (послечувствование), «югэн» (скрытая красота), «саби» (заброшенность, чувство вечного одиночества), «сатори» (озарение), «цу-цусими» (воздержанность, скромность) и многое другое… Ну а буддийский термин «карма» – это вообще одно из ключевых понятий-символов произведения. Используя эпистолярный «стиль», автор не просто воссоздает очарование языка старой литературы (ибо и поныне японцы пишут письма, используя особую лексику, особые обороты вежливости, особые, старые формы грамматики и прочие языковые «изыски»). Его герои, практически наши современники, жители индустриальной, научно-технической Японии по сути дела мыслят категориями японцев средневековья и действуют сообразно канонам средневековых духовных ценностей, – повинуясь высокому долгу и чести, почти конфуцианской дочерней (сыновней) почтительности, благородству и благодарности за оказанные благодеяния. По сути дела, в романе нет ни одного отрицательного героя, ни единого проявления низменных или пошлых чувств. Это аристократы духа. Все они глубоко несчастны, но возвышенно-благородны и склонны к самопожертвованию. В этом смысле «Узорчатая парча» глубоко традиционна. Кстати, драма героев начинается именно с «синдзю» – воспетого в классической японской литературе и поэзии «двойного самоубийства» влюбленных. Его совершали несчастные любящие, если Судьба препятствовала их соединению. Неважно, что на поверку «двойное самоубийство» окажется не «двойным». Что возлюбленная Ясуаки сначала пыталась убить его, а потом лишила жизни себя, – ведь это случилось не из подлости или мести, а совсем по иным, драматичным и романтичным, почти что классическим мотивам…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: