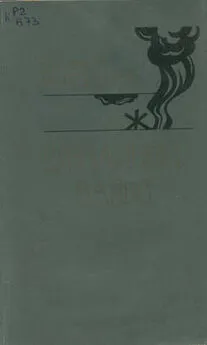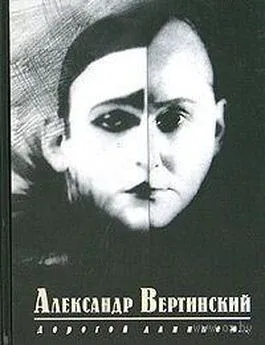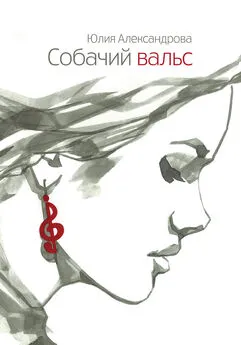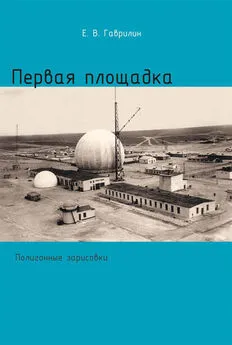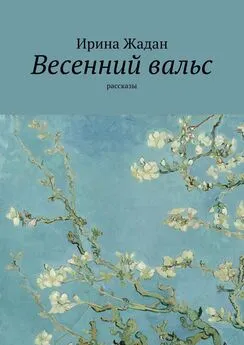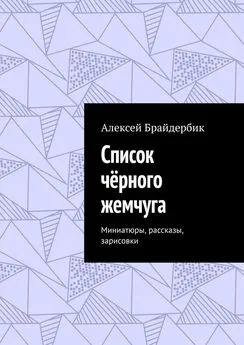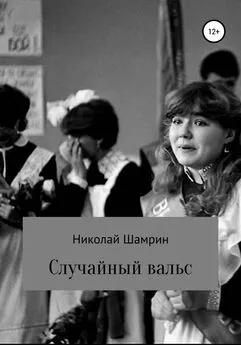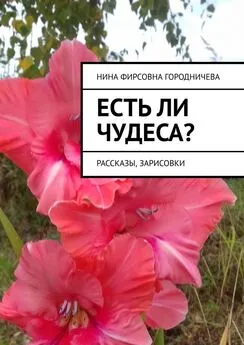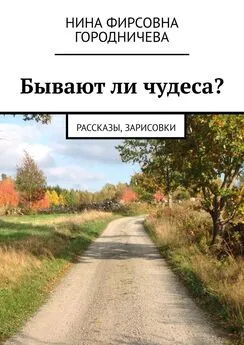Евгений Богданов - Случайный вальс: Рассказы. Зарисовки
- Название:Случайный вальс: Рассказы. Зарисовки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Северо-Западное книжное издательство
- Год:1986
- Город:Архангельск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Богданов - Случайный вальс: Рассказы. Зарисовки краткое содержание
Сборник известного северного писателя составили рассказы как ранее издававшиеся, так и новые. Незаёмное знание жизни, ненавязчивая манера письма, хороший язык — вот что отличает прозу Е. Богданова.
Завершают сборник автобиографические заметки «Каргопольские зарисовки» — воспоминания писателя о времени и о себе.
Случайный вальс: Рассказы. Зарисовки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Всех оделяли лесным даром.
Потом косари мылись в банях на берегу Чурьеги. Парились азартно, отчаянно, «до седьмого пота», а потом нагими выбегали из бани и бросались в реку здоровые, краснотелые. Долго плавали в прохладных струях Чурьеги. Из бани приходили домой чаевничать размякшие, помолодевшие, в благодушном настроении.
КАРГОПОЛОЧКИ
В одной песенке поётся, как каргополочка полоскала зимой в лютый мороз бельё в проруби на реке. Так и было: каргопольские женщины всегда шли полоскать белье после домашней стирки на прорубь. После этого белье сохло, проглаживалось утюгом или прокатывалось вальком и становилось очень чистым и свежим.
Эта маленькая деталь подмечена в песенке верно, и если добавить еще несколько штрихов — получится полный портрет каргопольской женщины.
Она — отличная хозяйка, заботливая мать, умная, любящая жена. Трудолюбива, бойка и остра на язычок. В трудное время при необходимости могла выполнять и тяжёлую мужскую работу, не слишком сетуя на «судьбу-злодейку». Летом отправлялась на лодке косить траву на дальние покосы, умела, конечно, грести веслами и править рулём. В «безмужичные» военные годы ей приходилось становиться и за плуг, садиться за руль трактора, а то и грузовика.
Поколоть дров — бралась за топор, если дрова кончились — запрягала лошадку в дровни и отправлялась в лес рубить березняк. Каргополы всем дровам предпочитали берёзовые, их можно топить прямо с воза непросушенными, они хоть и разгорались долго, но жару от них и угольев для самовара хватало.
Каргополочка умела «гасить» [12] Раньше на рынке обычно продавали местную «ломаную» известь глыбками. Перед побелкой её «распускали» или «гасили» в кадке, поливая водой.
известь и белить потолки в доме, мыть полы голиком с дресвой до желтизны, до блеска. В старые времена в деревнях полы не красили, стены в избах не оклеивали, все было натуральным, деревянным, и воздух в жилых помещениях стоял сухой и свежий.
А как пели каргополочки! Вот, например, как было в Ошевенске.
…Ясный и тёплый субботний вечер. Женщины ждут мужей с покосов. Они целую неделю жили в избушках и работали на дальних лесных пожнях, а в этот вечер должны вернуться на отдых домой, помыться в баньке, провести воскресенье в семьях. Женщины днём окучивали картошку за гумнами, их с работы отпустили пораньше. Быстро сделав домашние дела, наносив воды в бани и затопив их, они собирались на штабельке брёвен на улице поговорить о том о сём, посудачить. Сидели, беседовали, а потом вдруг притихли. Одна сказала:
— Матрёна, запевай-ко!
Матрёной звали нашу соседку. Она была выше среднего роста и, несмотря на возраст, еще довольно стройна и приглядна. Лицо у неё строгое, брови тёмные, почти сросшиеся у переносицы, а глаза из-под них смотрели светлые-светлые, такие голубые и добрые. Иногда в них можно было заметить этакую меланхолическую задумчивость, мечтательность. Зубы ровные, чистые, только на одном поблёскивала золотая коронка. Поэтому её и звали Матрена Золотой зубок. Тем она и выделялась среди соседок — ни у кого из них больше золота во рту не было, да и в кубышках, наверное, тоже, разве что берегли иные обручальные колечки…
Одета Матрёна в простой домотканый сарафан в клеточку и ситцевую кофту с коротким рукавом. Руки от локтя до кисти загорелые, сильные, жилистые — в работе жирок не копится.
Матрёна поглядела на подружек.
— Дак чего запеть-то?
— Давай «Сад». Пока баня топится, споём-ко.
— Ладно.
Матрёна опускала с головы на плечи свою косынку, голубые ее глаза устремлялись вдаль, становились мечтательными. Она запевала низким и сочным «грудным» голосом:
Уж ты, сад, ты мой сад,
Сад зеле-е-ененькой,
«Товарки» дружно подхватывали:
Что ты рано цветешь,
Осыпа-а-аешься?..
Матрёна опять выводила уже погромче, голос ее окреп.
Что ты рано цветешь, осыпа-а-аешься?
Другие вторили:
А куда ты, милой мой,
Да собира-а-аешься?
Кончилась песня — завели другую. Солнце за их спинами клонилось к горизонту, от штабелька с брёвнами на траву легла тень. Небо очистилось от облаков, зазолотилось, и речка Чурьега поодаль тоже успокоилась, перестала рябить, поверхность ее стала зеркально чистой и тоже золотистой. Башенки и стена Ошевенского монастыря отражались в ней белые, неподвижные.
В разгар пения в соседнем межутке [13] Промежуток между избами.
пожилой мужик вдруг принялся что-то тесать топором. Песельницы рассердились:
— Погоди стучать! Приспичило тебе!
Мужик, посмеиваясь, вонзил топор в плаху, достал кисет и прислушался. Кто шел мимо — присоединялся к хору, и голоса звучали все сильнее, все стройнее. Были в этом хоре и «верхи», и «низы», голоса и подголоски. Увлеклись, забыли про всё на свете. У Матрёны на щеках расцвел румянец, глаза заблестели — не дашь ей сорока лет. Двадцать, и всё тут…
Наконец хор умолк. Одна из женщин, что помоложе, низенькая, полногрудая, со смешливыми карими глазами, как на пружинках, высоким речитативом выложила «остатнюю» песенку:
Я по травке шла,
По муравке шла,
Я клубок нашла:
Клубок катитсе,
Нитка тянетсе,
Клубок дале, дале, дале,
Нитка тоне, тоне, тоне…
За нитоцьку принялась —
Нитоцька порвалась,
И вся песня извелась…
— Всё! — выдохнула певица напоследок и всплеснула руками. — Ой, про бани-то и забыли! Уж, поди-то, протопились. Надь ладить… А то мужики скоро придут. Ох-ти-мнешенько! [14] Ох ты мне! (места.).
И побежала. За ней снялись со штабелька и остальные, заспешили кто куда. Мужик опять засмеялся, покачал головой и взялся снова за свой топор.
Каргополочки очень рукодельны. Зимой сидели за прялкой, вытягивая веретеном тонкую суровую нить изо льна. Из таких нитей на станках-кроснах ткали холсты. А ранней весной расстилали их по солнышку на снег — отбеливать. Потом мыли холсты, гладили и шили из них белье, сарафаны, кофты, полотенца. Полотенца вышивали по концам больше «крестиком», красной шерстяной нитью. Узоры — петухи, стебли с цветочками мелкими.
Обработка льна требовала много труда. Привезя его с поля, «бруснули» — обивали головки с семенем. Затем выдерживали стебли на траве, под росами, мяли на гумнах мялками, отбивая костру — грубую оболочку стеблей, расчесывали лён, свивали его в «пасма» — толстые мотки. Затем привязывали пучки льна к прялкам и брались за веретёнца.
На домашних станках ткали также половики-дорожки с разноцветными поперечными полосками. Материалом служили лоскуты из всевозможных старых одежек. Основой ткани была льняная прочная нить. Всю зиму в избах мягко постукивали деревянные ткацкие станки, жужжали веретёнца.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: