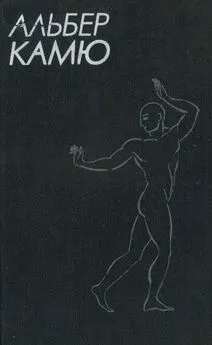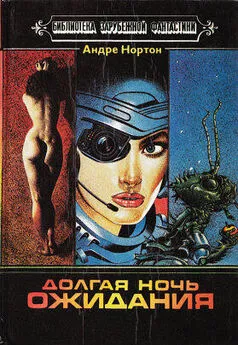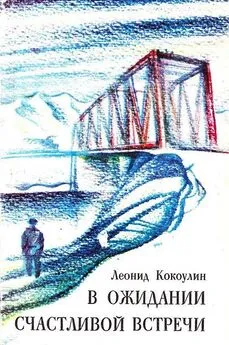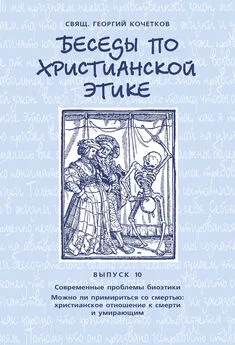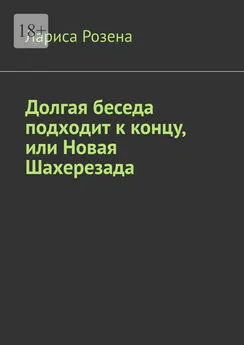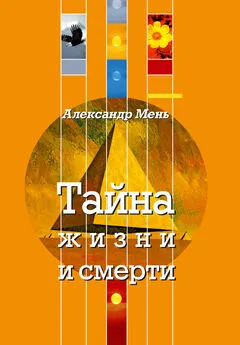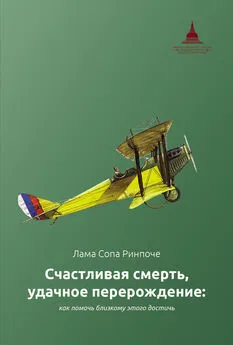Евсей Цейтлин - Долгие беседы в ожидании счастливой смерти
- Название:Долгие беседы в ожидании счастливой смерти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Franc–Tireur, USA,
- Год:2009
- ISBN:978-0-557-09567-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евсей Цейтлин - Долгие беседы в ожидании счастливой смерти краткое содержание
Книга Евсея Цейтлина «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» уже выходила на русском в Вильнюсе пять лет назад. Но ее подлинный исторический и художественный смысл начал раскрываться только недавно — когда были обнародованы документы, свидетельствующие о тесном сотрудничестве руководства католической церкви Литвы в годы нацистской оккупации с СС и с НКВД-МГБ-КГБ в послевоенное время. Сопоставив документальные свидетельства и «двойное зрение» рядового очевидца литовской истории последних шести десятилетий, мы заново открываем для себя атмосферу тотального гнетущего страха и предательств, в которой жило население Литвы на протяжении почти всего ХХ столетия.
Долгие беседы в ожидании счастливой смерти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И вот я хочу написать эссе, где собираюсь проследить этапы этого насилия над личностью, которое переходит потом в саморазрушение таланта.
Вечером рассказываю й план своего эссе. Его реакция неожиданна. Он опровергает…самого себя:
— То, что случилось со мной, трагично, но я не воспринимал это как антисемитизм.
Сначала — недолго — спорю. Потом молчу. Хотя могу напомнить й его собственные слова, свидетельствующие об обратном. Его аргументы сейчас так легко опровергнуть.
— …Разве это был антисемитизм? — убеждает меня й. — В те страшные годы почти все крупные литовские писатели поддерживали меня… Шимкус, Балтушис, Венцлова, Цвирка, Тильвитис… Я чувствовал их теплые взгляды, которые резко диссонировали с тем, что писали газеты. И не только взгляды. Как раз в разгар «дела врачей» меня вызвал к себе Балтушис — в ту пору мой шеф, главный редактор журнала «Пяргале»: «Слушай, Йосаде, тебе надо сейчас поехать в Ялту. Вот путевка в дом творчества на два месяца, потом сможешь остаться там еще».
Обнаружив в прошлом интересные факты, й, как всегда, оживляется:
— Учтите, это было не только со мной. Я знаю еврейских журналистов, которые, на первый взгляд, серьезно пострадали в период «борьбы с космополитами». На первый взгляд… В сорок восьмом году с ними, если не ошибаюсь, беседовал сам Шумаускас (в то время — заместитель председателя совета министров Литвы). Разумеется, беседовал с каждым наедине. Схема разговора была все той же: «Уезжай из Каунаса в Шяуляй… Дадим квартиру… Дадим работу». А формально «еврея-космополита» убирали из партийной печати. И рапортовали об этом в Москву.
й смотрит на меня. Ничего не говорю ему о том, что он знает прекрасно сам: в Литве смягчали «государственно-партийный антисемитизм», но разве могли отменить вообще? Разве могли не закрыть еврейские газеты, еврейский музей, школы, разве…
Молчу. Я вдруг понимаю: именно такая реакция й очень интересна для меня. Именно изменчивость его сознания прежде всего требует наблюдения. Затем, уже дома, понимаю и другое: он прав глубинно, хотя не может это сформулировать. Государственный антисемитизм уничтожал еврейскую культуру, уничтожал творцов. Но души прежде всего деформировал страх. ___________________
Почему й раньше говорил мне иное? Да, он враг стереотипов и штампов. Однако стереотипы мышления многослойны. Первый слой — банален, на его основе строят пародии; второй слой штампов берут журналисты, но зачастую обходят писатели… Что такое третий слой стереотипов? Может быть, он опасен больше всего. В нем — иллюзия истины.
____________________
Порой кажется: й (как многие люди) вспоминает… свои прежние воспоминания.
Говорю ему об этом. Ищем выход. Наконец, решаем: буду задавать ему «неудобные» вопросы — с их помощью нужно отбросить наслоения штампов.
____________________
Он и сам всегда хотел понять движение своего сознания. Как интересно было бы прочитать дневники й разных лет. Увы!
«…Мой первый, довоенный дневник пропал. Я вел его то ли с четырнадцати, то ли с пятнадцати лет. До самой войны. До первого ее дня. Шесть толстых тетрадей. Там все еще было наивно, печатать это было нельзя. Однако там была моя жизнь! С помощью тех тетрадок я смог бы проанализировать путь моего становления.
Разумеется, я не вспомнил о дневнике, когда бежал из Каунаса. Дневник остался в моей квартире. После войны я пришел туда, перерыл все углы. Безрезультатно.
Вел ли дневник на фронте? В свободные минуты. Понемножечку. Продолжал и после войны. Тот дневник я сжег в ожидании ареста, в начале пятидесятых.
Теперь вот опять дневник. Старости».
Первый и второй его дневники были на еврейском. Последний — на литовском. Язык фиксирует самое интимное. Смена языка символизирует трагический перелом.
_______________________
Прав Андре Мальро: «…человеку не дано достичь дна человека; он не находит своего образа на том пространстве знаний, которое он освоил; он находит свой собственный образ в вопросах, какими он задается».
_____________________
Что обнаружил бы й, если бы все три дневника оказались сейчас перед ним?
Пусть своего литературного становления.
Попытки «самовоспитания».
Эпизоды, которые ему не хочется вспоминать (и потому он — интуитивно — не откопал их в прошлом).
Инстинкты, с годами отпавшие, точнее — трансформировавшиеся в иное.
Суету… Суету… Суету…
Страхи. И — память о старых страхах.
А в общем — все то же, что отражает сейчас наше «зеркало».
Жизнь при свете смерти. Тетрадь вторая
О пользе некрологов
2 декабря 93 г. й снова признался, что очень хочет прочесть свой некролог.
— Скажите, — спрашивает он меня, — в моем желании есть логика?
Без всякого лукавства отвечаю: да. Человеку очень важно заранее узнать итог своего земного пути. Заглянув в некролог, он скорректирует многие собственные поступки…
— Это — фантастика, — прерывает меня й. — Фантастику я не люблю даже в искусстве. Но реально другое: человек может попробовать написать свой некролог сам…
Как всегда, й волнуют аналогии. Были ли подобные случаи в истории литературы?
Вот почему я рассказываю ему о сибирском писателе Антоне Семеновиче Сорокине (1884 — 1928).
_____________________
Сорокин легко отбрасывал условности, в плену которых обычно находятся люди. Он мог заказать свой скульптурный портрет, чтобы потом подарить его музею. Сам выдвинул себя кандидатом на премию Нобеля. Сам же рассылал собственные произведения главам многих государств. (Правда, ответил Антону Семеновичу лишь король Сиама — извинился, что не понимает по-русски).
Удивительно ли то, что однажды Сорокин напечатал в одном из дореволюционных журналов некролог в связи со своей мнимой смертью?
…Какие выводы делает й, выслушав заинтриговавший его рассказ?
Сначала задает вопрос:
— Скажите, не был ли Сорокин сумасшедшим?
— Нет! Он был всего лишь эксцентричен. Но ведь эксцентричны многие люди. Сорокин же был по-своему очень рассудителен и даже прозорлив. Так во всяком случае считали те его современники (например, Горький), которые ценили творчество Антона Семеновича и его общественные начинания.
— Мне кажется, вы говорите о родном мне человеке!
й волнуют подробности: можно ли было что-то купить на те деньги, которые Сорокин напечатал во время гражданской войны; как выглядела издаваемая им «Газета для курящих»…
— Значит, на купюрах стояла подпись самого Сорокина? Действительно, он никого не обманывал! Вы говорите, что газета печаталась на особой бумаге — из нее легко было свертывать самокрутки? Это тоже на редкость логично!
Но главный вопрос й, понятно, о другом:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: