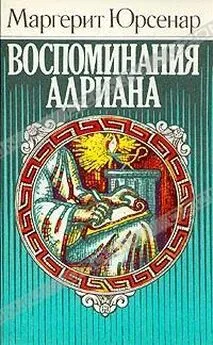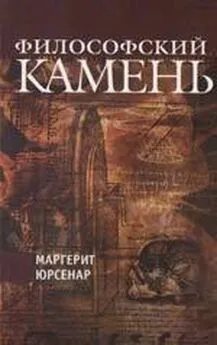Маргерит Юрсенар - Воспоминания Адриана
- Название:Воспоминания Адриана
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Радуга
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Маргерит Юрсенар - Воспоминания Адриана краткое содержание
Вымышленные записки-воспоминания римского императора в поразительно точных и живых деталях воскрешают эпоху правления этого мудрого и просвещенного государя — полководца, философа и покровителя искусств, — эпоху, ставшую «золотым веком» в истории Римской империи. Автор, выдающаяся писательница Франции, первая женщина — член Академии, великолепно владея историческим материалом и мастерски используя достоверные исторические детали, рисует Адриана человеком живым, удивительно близким и понятным нашему современнику.
Воспоминания Адриана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я сопротивлялся как мог; я сражался с болью, как с гангреной. Я вспоминал его упрямство, его ложь; я говорил себе, что ему предстояло перемениться, обрюзгнуть, постареть. Все было напрасно: как ремесленник тщится, изнемогая, скопировать образец высокого искусства, так я в неистовстве требовал от своей памяти быть скрупулезно точной; я пытался воссоздать эту грудь, высокую и выпуклую, как щит. Временами образ сам возникал вдруг перед моими глазами; меня подхватывала волна нежности, я снова видел сад в Тибуре, видел эфеба, собирающего осенние плоды в свою подвернутую тунику, точно в корзину. Пустота наступила для меня во всем: мне не хватало товарища по веселым ночным гуляньям, молодого человека, который, присев на корточки, помогал Эвфориону поправить складки моей тоги. Если верить жрецам, тень тоже страдает и оплакивает теплый приют, каким для нее являлось тело, и со стоном навещает родные места, — тень далекая и в то же время близкая и такая вдруг слабая, что ей не под силу дать мне знак о том, что она рядом. Если все это правда, то моя глухота хуже, чем смерть. Но разве в то утро я понял его, живого, когда он рыдал подле меня? Однажды вечером меня позвал Хабрий, чтобы показать мне в созвездии Орла звездочку; до сих пор она была едва различима, но вдруг засверкала, как драгоценный камень, и стала мерцать и биться, точно сердце. Ее я счел его звездой, его знаком. Каждую ночь, изнуряя себя, я наблюдал ее путь, и мне виделись странные фигуры в этой части неба. Меня считали безумным. Но это мало меня заботило.
Смерть отвратительна, но и жизнь — ничуть не меньше. Все вокруг было сплошное кривляние. Закладка Антинополя — всего лишь смехотворная игра, еще один город, который станет прибежищем для купцов с их мошенничеством, для чиновников с их лихоимством, для проституции, для распутства, для ничтожных людишек, которые оплакивают своих мертвецов, чтобы тут же навеки забыть их. Не нужны были и эти посмертные почести, эти торжества, проводимые столь широко и публично; они служили только тому, чтобы сделать из смерти мальчика предлог для подозрительных намеков и иронических усмешек, сделать его самого объектом низменных страстей или скандальных слухов, одной из тех подгнивших легенд, которыми и без того забиты закоулки истории. Моя скорбь была для всех лишь свидетельством распущенности, безнравственности; я был в их глазах человеком, который из всего извлекает выгоду или наслаждение, все обращает в эксперимент: юноша, которого я любил, подарил мне свою смерть. Обманутый человек оплакивал самого себя. Мысли поворачивались со скрипом; слова вращались в пустоте; голоса звучали, как треск саранчи в пустыне или жужжание мух над кучей отбросов; наши суда с раздутыми, как голубиная грудь, парусами везли груз лжи и интриг; на лбу у каждого человека была написана глупость. Смерть сквозила во всем, на все налагая печать упадка и разложения — пятно на перезрелом плоде, едва заметная дырка на драпировке, падаль на берегу, гнойные язвы на лице, след бича на спине лодочника. Даже собственные руки все время казались мне нечистыми. Принимая ванну и протягивая рабам ногу, чтобы они выщипали на ней волоски, я с отвращением смотрел на свое крепкое тело, на этот почти не поддающийся разрушению механизм, который переваривал пищу, двигался, спал, предавался любви. Я был в состоянии переносить присутствие лишь нескольких слуг — тех, кто помнил покойного, кто по-своему его любил. Мое горе находило отклик в простодушной скорби массажиста или старого негра, зажигавшего лампы. Но их печаль не мешала им потихоньку смеяться, когда они выходили глотнуть свежего воздуха на берегу и оставались наедине. Как-то утром, облокотившись о поручень, я увидел в отведенной для поваров каюте раба: он потрошил цыпленка, одного из тех, которые в Египте вылупливаются из яиц в тысячах печей; схватив двумя руками липкий ком внутренностей, он выбросил его в воду. Я едва успел отвернуться; меня стошнило. В Филее, во время празднеств, которые местный правитель давал в нашу честь, трехлетний ребенок, темно-бронзовый, сын привратника-нубийца, пробрался на галерею второго этажа, чтобы поглядеть на танцы, и свалился вниз. Было сделано все возможное, чтобы скрыть от всех этот инцидент; привратник сдерживал рыдания, чтобы не обеспокоить гостей своего господина; ему велели вынести труп ребенка через кухонные двери; на миг я увидел его плечи, которые судорожно вздрагивали, словно под ударами бича. У меня было ощущение, что я разделяю эту отцовскую боль, как некогда разделял боль Геракла, боль Александра, боль Платона, оплакивавших своих умерших друзей. Я велел отнести несчастному отцу несколько золотых монет — больше я ничего не мог для него сделать. Через два дня я снова увидел его; он вычесывал у себя вшей, блаженно растянувшись поперек порога на солнце.
Ко мне приходили послания; Панкрат завершил наконец свою поэму; это было лишь посредственное подражание гомеровским гекзаметрам, но имя, которое повторялось чуть ли не в каждой строке, делало поэму для меня дороже всех на свете шедевров. Нумений прислал мне, как положено в таких случаях, «Утешение»; я читал его всю ночь напролет; ни одно общее место не было в нем упущено. Шаткая защита, воздвигаемая его автором против смерти, строилась по двум линиям. Первая состояла в том, чтобы представить смерть как неизбежное зло, чтобы напомнить, что ни красоте, ни молодости, ни любви не дано избежать тленья, и чтобы, наконец, доказать нам, что жизнь с ее длинной чередой бед и несчастий гораздо страшнее, чем смерть, и что лучше погибнуть, чем состариться и одряхлеть. Все эти истины приводились для того, чтобы склонить нас к смирению; но они скорее внушали отчаяние. Второй ряд аргументов противоречил первому, но наших философов такие мелочи не смущают; тут речь шла уже не о смирении перед смертью, но о полном ее отрицании. В конце концов важна только душа; прежде чем взять на себя труд вообще доказать существование души, автор безапелляционно утверждал бессмертие этой достаточно зыбкой субстанции, отправлений которой вне тела никто никогда не видел. Я такой уверенности не разделял; если улыбка, взгляд, голос — эти невесомые реальности — исчезли, можно ли говорить о душе? Она вовсе не представлялась мне категорией менее материальной, чем теплота тела. Мы стремимся поскорей отстранить от себя телесную оболочку, когда она лишена души; но ведь эта оболочка — единственное, что у нас остается, единственное доказательство, свидетельствующее о том, что это живое создание действительно существовало. Бессмертие рода человеческого использовалось в трактате как утешение мыслью о том, что каждый человек смертен; но какое мне дело до того, что на берегах Сангария поколения вифинцев будут сменять друг друга до скончания времен? Говорилось в трактате и о славе; да, конечно, при упоминании о ней сердце наполняется гордостью, но между славой и бессмертием устанавливалась какая-то ложная связь — точно оставляемый человеком след ничем не отличается от его живого присутствия. Мне показывали бога, чей образ должен был заменить умершего; но этого сияющего бога создал я сам и по-своему верил в него, однако почетный удел посмертного бытия в звездных сферах, как бы лучезарен он ни был, не мог возместить мне эту краткую жизнь на земле; бог не мог служить заменой утраченного. Меня возмущало упорство, с каким человек пренебрегает фактами ради гипотез, упорство, с каким он не хочет признать, что грезы — всего только грезы. Я иначе понимал свой долг — долг человека, продолжавшего жить. Эта смерть была бы напрасной, если бы у меня не хватило мужества взглянуть ей прямо в лицо, сердцем прильнуть к той реальности смертного холода, молчания, свернувшейся крови, оцепеневших членов, которую люди так торопятся прикрыть землей и притворством; я предпочитал идти в темноте на ощупь, обходясь без жалких светильников. Я чувствовал, что люди вокруг меня уже начинают раздражаться при виде такой нескончаемой скорби; сила наших страданий оскорбляет окружающих подчас даже больше, чем их причины. Если бы я позволил себе предаваться подобным стенаниям по умершему брату или сыну, меня и тут упрекали бы в том, что я слезлив точно женщина. Память большинства людей — заброшенное кладбище, на котором без любви и без почестей лежат забытые мертвецы, и всякое горе, если оно неутешно, оскорбительно для этой забывчивости.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: