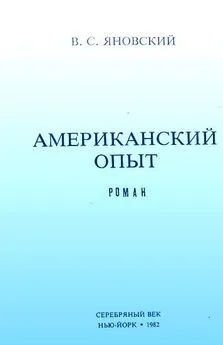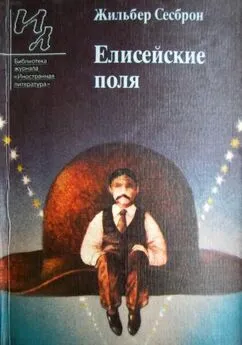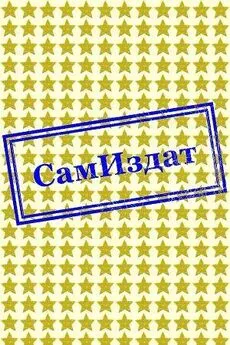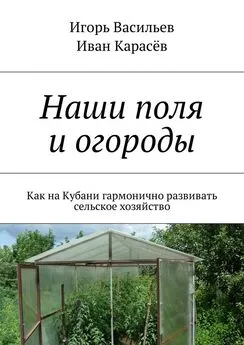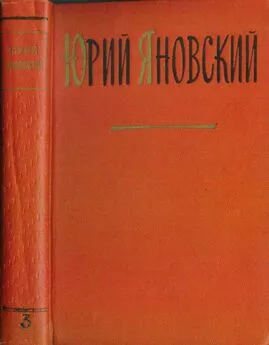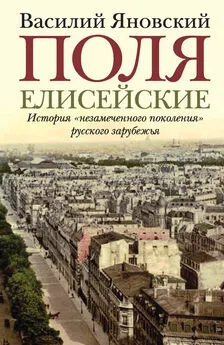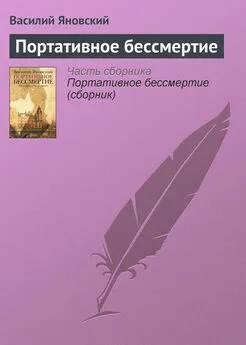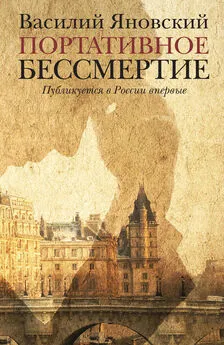Василий Яновский - Поля Елисейские
- Название:Поля Елисейские
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гудьял-Пресс Изд-во “Пушкинский фонд”
- Год:2000
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-8026-0086-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Яновский - Поля Елисейские краткое содержание
Василий Яновский вошел в литературу русской эмиграции еще в тридцатые годы как автор романов и рассказов, но мировая слава пришла к нему лишь через полвека: мемуарная книга `Поля Елисейские`, посвященная парижскому, довоенному, расцвету нашей литературы наконец-то сделала имя Яновского по-настоящему известным. Набоков и Поплавский, Георгий Иванов и Марк Алданов — со всеми Яновский так или иначе соприкасался, всех вспомнил — не всегда добрым, но всегда красочным словом. Его романы и рассказы никогда не были собраны воедино, многое осталось на журнальных страницах, и двухтомное собрание сочинений Яновского впервые показывает все стороны дарования этого ярчайшего писателя. Издание снабжено обширными комментариями
Поля Елисейские - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Всем покажется странным такой литературный развод.
— Она будет писать вещицы вроде тех, что Тэффи дает в «Возрождении», — убеждал Алданова Дмитрий Сергеевич.
Впрочем, и Бердяев не сотрудничал в газете; на большом собрании последний весьма толково распространялся по поводу дьявола в связи с деятельностью большевиков… И Милюков насмешливо заметил, что Бердяеву, вероятно, хорошо знакома сущность князя мира сего, если он так авторитетно о нем высказывается. Это почему-то обидело философа.
— Мне этого не нужно, — с достоинством объяснял Бердяев. — Меня охотно печатают в других изданиях.
Но газеты «своей» он не имел. И Федотову там не было места. Коротко говоря, профессиональным христианским мыслителям, за исключением одного Мочульского, кажется, ход к Милюкову был затруднен.
Это верно по отношению к «старикам»; молодые же уже с середины 30-х годов могли, соблюдая известные цензурные правила, печатать в газете свои самые характерные произведения, хотя бы по чайной ложке!
«Последние новости» тогда расходились по всем углам зарубежья. Авторитет Милюкова ставился высоко не только либеральными эмигрантами, но и многими влиятельными иностранцами. Передовицы Павла Николаевича читали на Quai d'Orsay и газета в какой-то мере влияла даже на реальную политику.
Постоянный сотрудник «Новостей» мог добиться анемичной славы чуть ли не на пяти континентах. Поэтов перепечатывали безвозмездно в рижском «Сегодня» и в нью-йоркском «Новом русском слове». По поводу прозы, как я уже писал, провинция имела собственное мнение и в нашем творчестве отнюдь не нуждалась.
Кроме чести и славы была еще одна причина, почему мы все подходящее таскали в редакцию «Последних новостей». Гонорар!
В нищей Европе очень расчетливый, даже скупой Милюков так поставил газету, что она приносила завидную прибыль. Главной статьей дохода, как полагается в периодической печати, являлись объявления. Те объявления, о которых Дон-Аминадо писал: «За право пользоваться ванной даю уроки фортепьяно».
Ближайшие сотрудники газеты участвовали даже в дележе добычи; кроме того, у них имелась великолепнейшая касса взаимопомощи, Что же касается «случайных» сотрудников, то для нас был установлен минимум гонорара, которому могли бы позавидовать многие туземные литераторы. Короче говоря, труд в газете оплачивался, хорошо оплачивался.
Я начал, кажется, с 75 сантимов за строчку и вскоре перевалили за франк. А за франк, даже блюмовский, еще можно было купить livre [49] Фунт (франц.).
хлеба или литр вина; флакон духов или бутылка шампанского — 25 франков. При даровой или чудом оплаченной комнате, один «подвал» в газете давал уже возможность протянуть целый месяц. Ничего равного ни одна русская газета даже в щедрой и богатой Америке никогда не предоставляла своим писателям.
Поневоле заскучаешь, если не по передовицам Милюкова, то по его умению прибыльно и честно вести коммерческое дело.
Редакция в 30-х годах располагалась у метро Arts et Metiers на втором этаже. Первая «комната», проходная, без окон, с вечной электрической лампочкой, на стене распределительная доска с телефоном… Ладинский, дежурный, между болтовней с посетителем и работой над собственным фельетоном, отрывисто, но исчерпывающе отвечал на очередной звонок, соединяя просителя с конторой, метранпажем, кассиром.
Так в этом чулане и дома по вечерам Ладинский даже ухитрился написать кроме своей лирики два романа из римской и византийской жизни.
Антонин Петрович — прапорщик Первой мировой войны; после гражданской заварушки эвакуировался с юга и застрял в Каире, где подучился английскому языку, так что иногда даже переводил очередную главу полицейского романа для газеты.
Ладинский писал лирические очерки, проникнутые ностальгической любовью к своему детству и родному Пскову; впрочем, его волновала также и «медь латыни». Как многие из служивого или чиновничьего сословия, он был кровно связан с «Империей», «великой державой», Дарданеллами, исконными границами — все глубже и дальше — и прочими атрибутами чувственного патриотизма. Разумеется, Антонин Петрович стоял за свободу личности, за ее юридические права, за ограничение государственного произвола — одним словом, за Павла Николаевича Милюкова. Но все это потом, когда границы империи будут на все сто процентов обеспечены, а националь-ные интересы защищены.
В пору советско-финской бойни Ладинский, писавший одухотворенные неоромантические стихи, из кожи лез в «Круге», оправдывая стратегию Шапошникова, уверяя, что нельзя оставить в «такое время» Ленинград под дулами выборгских орудий…
Надо ли удивляться, что эти верные сыны великодержавной России после трудной победы Красной армии взяли советский паспорт. Ладинский, как и Софиев, даже честно поехал в Союз, где он недавно отдал Богу душу. Империализм в истории соблазнял мужчин больше, чем бабы, карты и вино вместе взятые. А в Библии он среди смертных грехов не числится.
От Ладинского осталось 2–3 прелестных стихотворения, но интересного разговора с ним не получилось. Высокий, худощавый, несколько северной (шведской) внешности, но с русским красным, армейским, носом, он в ту пору напоминал Тихонова — тоже романтического поэта и солдата.
Ладинский жил исключительно литературным трудом, если считать обязанности телефониста в редакции тоже прикосновенным к отечественной словесности.
Меня удручала эта приемная без окон, с вечным электрическим сиянием. От скуки мы сплетничали. Об одном шумном литераторе Ладинский несколько раз так выразился:
— Если бы у меня была его энергия, то я бы сидел не здесь у телефона, — тут он обычно оглядывался по сторонам и понижал голос, — а там, в кабинете редактора.
Чем бы Ладинский ни занимался: телефон, перевод бульварного романа, очерк или стихи, всюду он проявлял одну и ту же «органическую» добросовестность, характерную для русского мастерового, труженика, пахаря и солдата. Существует прочно утвердившаяся легенда о национальной распущенности, о русском «авось» да «кабы», «пека», «как-нибудь»… Неаккуратность, темнота, анархизм, халатность, грубость, даже бесчестность, в сочетании с бунтом, богоискательством и жаждой абсолютной «правды». Может быть, это реально для разночинца, студента, кулака, босяка, не знаю. Но есть другая особенность, универсальная — стоять «до конца» при любых обстоятельствах, даже в николаевском Севастополе, выпускать из своих рук только совершенно исправный продукт, завершенный, отделанный, независимо от рентабельности. Это черта мастера, артизана, художника, Левши, врача, преподавателя, публициста, свойственная одинаково и Розанову, и Чернышевскому, и штабс-капитану Тимохину. Такого рода тяга к совершенству «товара», одинаковая у мужиков и интеллигентов, мне кажется, до сих пор еще не была должным образом отмечена… А в классических трудах описываются в первую очередь легендарная лень, расхлябанность, безграмотность, водка, бунт и жажда немедленной, соборной «справедливости». Здесь какая-то неувязка.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: