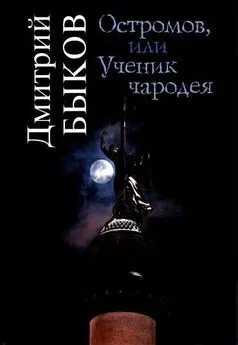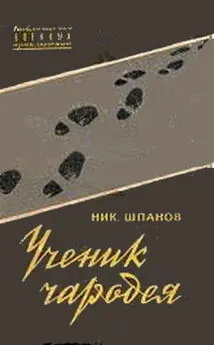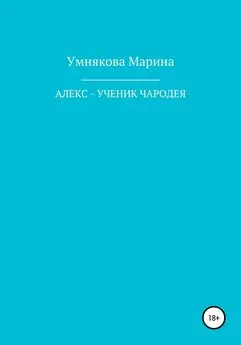Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
- Название:Остромов, или Ученик чародея
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПрозаиК
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-094-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея краткое содержание
В основу сюжета нового романа Дмитрия Быкова «Остромов, или Ученик чародея» легло полузабытое ныне «Дело ленинградских масонов» 1925–1926 гг. Но оно, как часто случается в книгах этого писателя (вспомним романы «Орфография» и «Оправдание», с которыми «Остромов» составляет своеобразную трилогию), стало лишь фоном для многопланового повествования о людских судьбах в переломную эпоху, о стремительно меняющихся критериях добра и зла, о стойкости, кажущейся бравадой, и конформизме, приобретающем статус добродетели. И размышлений о том, не предстоит ли и нам пережить нечто подобное.
Остромов, или Ученик чародея - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Шестого августа, в собственный день рождения, Даня неожиданно получил приглашение в гости и достиг первого серьезного успеха в обучении, и вот как это вышло.
Он направлялся в Публичную библиотеку — посмотреть журналы за последние месяца три, — и в дверях нос к носу столкнулся с Кугельским.
— Ба, ба, ба, товарищ Даня! — искусственно обрадовался Кугельский. Видимо, в журналистских кругах модно стало экзальтированно приветствовать своих, чтоб чужие завидовали. — Вы что же не заходите? Столько раз про вас вспоминал!
— Да так как-то все, — промямлил Даня.
Кугельский не опознал цитаты.
— Напрасно, товарищ Даня, очень напрасно! Под лежачий камень вода не течет. Да вот кстати: я сегодня вечером собираю у себя. Люди все дельные. Давайте, давайте. Познакомлю кое с кем. Кстати, буду читать. Да. Хочу проверить вещь. Приходите. Не придете — обижусь.
Даня сроду бы не пошел к нему в обычный день, даже и без предупреждения Льговского, поскольку первым впечатлениям привык доверять, — но уж очень мало прельщала его перспектива снова набиваться к Воротниковым, да и Варгу надо было куда-то выводить, как сама она называла это — то ли по-конски, то ли по-собачьи, но в светских и конских терминах хватает общего: выезд, элита, порода…
— У меня день рождения сегодня, — зачем-то признался Даня.
— Так и отлично, заодно отметим! Или свои планы?
— Планов никаких, — честно сказал Даня. — Я только не знаю, зачем я вам там…
— Что значит — зачем?! — напыщенно воскликнул Кугельский. — Вы что же, лишний человек? Печорин? Значит, записывайте…
— Я запомню, — пообещал Даня. У него не было блокнота. Кугельский долго и с наслаждением разносил его за непрофессионализм.
— Только представьте, — говорил он с преувеличенной живостью. — Вы идете, и вдруг прелестная уличная сценка. Извозчики подрались или услышалось точное народное речение. Что, дать этому пропасть? Нет, товарищ Даня, пролетарский писатель не может разбазаривать жизнь — ни свою, ни чужую! Пойдемте, я вам куплю. Я вот, товарищ дорогой, до пяти книжек в месяц исписываю. Думаю, по-настоящему ленинградская улица заговорит только у меня. А на память не надейтесь: все вытесняется.
Он подтолкнул Даню к лотку с книгопечатной продукцией и за собственную мелочь приобрел Дане блокнот с надписью «Привет участникам общегородской партконференции!». Конференция собиралась тут полгода назад, но все блокноты так и не использовала — образовался излишек, спущенный в розничную сеть. Теперь любой, кто желал почувствовать себя делегатом общегородской конференции, платил двадцать копеек и наслаждался.
На журналы ушло у Дани часа два. Он просмотрел «Красную новь», «Красную ниву», «Прожектор», «Новый мир» и последний «Леф». Ощущения были странные. Сотня лучших умов старательно осуществляла по всем направлениям установку на дрянь, и чем дрянней выходило, тем больше они, кажется, радовались. Почему-то это было естественно: он не мог бы предположить ничего другого. Сложней было с объяснением. Весь этот перевернутый мир, в котором бегуны бежали как можно медленней, стараясь спотыкаться, а прыгуны прыгали один другого ниже, вручая пальму первенства тому, кто вовсе переступал кривыми ногами на месте, — держался на негласном уговоре: ни в коем случае не производить ничего настоящего, ибо оно одним своим появлением обнаружило бы фальшь всех общих конвенций. Это ненастоящее постепенно обучалось уже выглядеть товарным, живым, но в силу неопытности на каждом шагу обнаруживало инвалидность. Персонажи вступали в какие угодно отношения, кроме естественных, спорили обо всем, кроме того, что волнует живых, и в любой предложенной ситуации совершали поступки, до которых нормальный человек додумался бы в последнюю очередь. Изнасилованную комсомолку оскорбляло, что маньяк не подарил ей цветов. Обманутый муж негодовал, что жена изменила ему с беспартийным. Умирающий досадовал, что не увидит пуска нового комбината, и можно было вообразить, какую антипродукцию выдавит в мир этот комбинат, насильственно, мучительно преодолевая естественное желание работать как следует. Никто не хотел уюта, счастья, взаимной любви. Женщины тяготились красотой, мужчины — силой, всякий естественный порыв вызывал стыд, а главные озарения непременно приходили в грязи, в канаве, после разрыва или под маньяком. Герой ощущал себя на месте, только загнав свою жизнь в зловонный тупик, в медвежий угол, разметав дом, выбежав под ливень, сойдясь с нелюбимой, физически омерзительной. Признаком духовного аристократизма служило хаканье, гэканье, хмыканье, харканье, шумное сморканье. Болезнь приравнивалась к преступлению, курение — к подвигу, сострадание — к предательству, ласка — к разврату. В критических отделах уже потравливали Корабельникова, под которого продолжала писать добрая половина стиходелов, — но потравливали не за громыханье, не за следование собственному шаблону, не за газетное убожество, а за то, что он был недостаточно плох, что можно и должно было хуже. Первый час Даня читал с интересом и тем труднообъяснимым наслаждением, с каким всегда читаешь дрянь, — то ли радуясь ее предсказуемости и своей догадливости, то ли избавляясь от страха собственного несовершенства на фоне этой откровенной, ничем не прикидывающейся халтуры. Потом ему стало скучно, потом страшно — как если бы сначала перед ним карлики играли во взрослые игры, например в футбол, а потом победители принялись грызть проигравших. Он поднял глаза от «Нового мира» и стал обозревать читальный зал. Вид этот был лучшим аргументом против чтения: читали либо бывшие вроде него, либо настоящие вроде соседа справа, юноши с крысиной мордочкой, раскачивавшегося на стуле и грызшего ногти от напряжения. Чтение было ему не по силам, он каждые пять минут отвлекался, ища взглядом, на чем бы отдохнуть, — но никто вокруг, как назло, не дрался, не совокуплялся и не жрал, а прочее было ему неинтересно. Все были серы, несчастны и злы: бывшие — оттого, что проиграли, настоящие — от того, что победа ничего им не дала, наелись дерьма за собственные деньги, столько назверствовали, а теперь приходится сидеть и читать; окончательное истребление прежних хозяев не случилось, а новыми хозяевами они не стали, и вообще непонятно, кто выиграл от всех этих девяти лет, раз все стало то же самое, только без прежней надежды на перемены.
Может, и все, что было в журналах, сделалось такой дрянью именно потому, что делать, как лучше, уже пробовали, а потому возобладала бессознательная установка на худшее: может, теперь, quo absurdum [23] От бессмысленного (лат.).
, выйдет что-нибудь дельное? А может, никто не знал, что теперь делать, и все только нащупывали правила игры, и сплошь выходили пробы да ошибки? Но страшней и верней всего выглядела догадка о том, что теперь за всю эту дрянь придется расплачиваться, и чтобы не стать крайним, все старались выглядеть как можно хуже: ясно же было, что спросят с тех, кто хоть что-то мог и понимал. В частности — с Корабельникова, который, как ни старался, не мог прикинуться окончательной бездарью. Все дрались и толкались, спеша наперегонки к животному состоянию, сливались с местностью кто во что горазд, притворялись кто елкой, кто ухабом, кто болотной мочажиной и отчетливо понимали, что уцелеет лишь тот, кто убедительней притворится коровьей, а лучше бы человечьей лепешкой. Этот конкурс вовсю шел в любом журнале, и особенно наглядно — в критических отделах, где били только тех, кто был недостаточно плох, и признавались в этом почти прямо. Если какой-нибудь фантом умудрялся помимо авторской воли ляпнуть живое слово, пожалеть несчастного, позавидовать счастливому, проговориться о том, о чем подспудно думали все, — автора немедленно метили и делали кандидатом на уничтожение, не сейчас, а вот лет через пять, когда все окончательно перестанет получаться и придет пора заменять так и не освоенное созидание привычным, всегда удающимся истреблением.
Интервал:
Закладка: