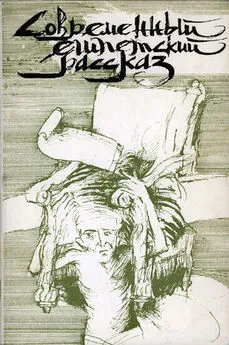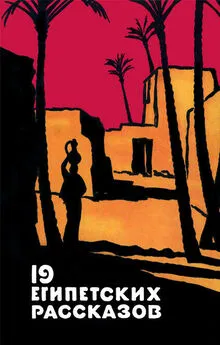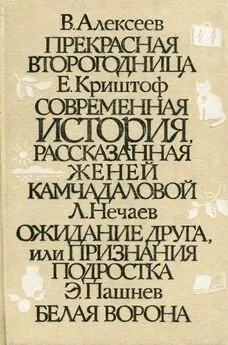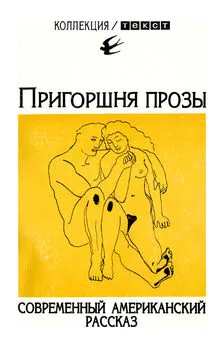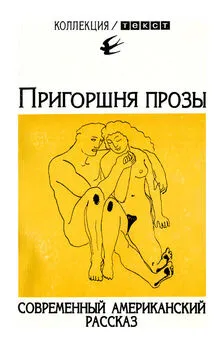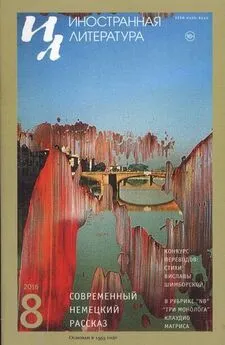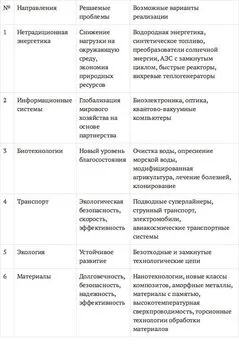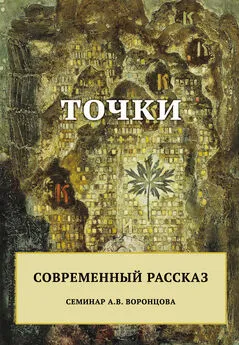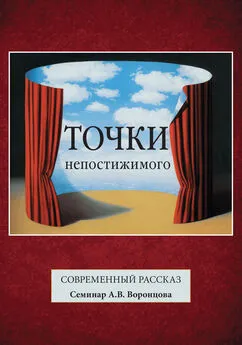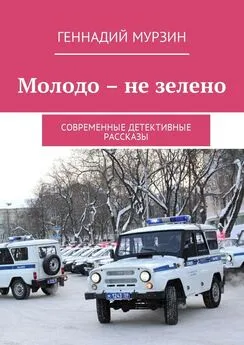Юсуф Шаруни - Современный египетский рассказ
- Название:Современный египетский рассказ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Главная редакция восточной литературы издательства «Наука».
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юсуф Шаруни - Современный египетский рассказ краткое содержание
Антологический сборник современного египетского рассказа включает в основном произведения 60–70-х годов нашего века. Целью составителя было показать египетский рассказ в динамике его развития. Поэтому в сборник вошли произведения начинающих свой путь в литературе талантливых новеллистов, отражающие новые искания молодого поколения писателей Египта.
Современный египетский рассказ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Совсем иная интонация, иное настроение отличают произведения тех же авторов, написанные всего несколько лет спустя, в начале 60-х годов. В эту пору постепенной утраты надежд, мучительных раздумий над будущим, поисков своего места в быстро меняющемся обществе юмор, улыбка, оптимизм уступают место драматической напряженности сознания. Новеллист перестает быть сторонним наблюдателем, он сливается со своим героем, и пространством рассказа становится его собственный внутренний мир.
Ни «Толчея» (1963) Юсуфа аш-Шаруни, ни «Язык боли» (1965) Юсуфа Идриса нельзя назвать житейскими историями в том смысле, который применим к прошлым рассказам этих авторов. «Толчея» — несомненно, лучший из всех написанных Шаруни рассказов, — хотя и содержит факты внешней биографии героя, представляет собой прежде всего его внутреннюю историю, рассказанную им самим, уже обитателем сумасшедшего дома. Противопоставление душевного мира героя — кондуктора, поэта, влюбленного и, наконец, сумасшедшего, с его исступленной жаждой красоты, любви и счастья, с его воспоминаниями о приволье и просторе деревенского детства — невыносимому, противоестественному существованию в толчее, спешке и сутолоке большого города — источник и его душевной болезни, и резко контрастной, экспрессионистской образности рассказа.
Такой же болезненный надлом обнаруживается и в душе героя рассказа Идриса «Язык боли», человека, живущего в совсем других условиях, чем бедолага-кондуктор Шаруни. Он добился успеха в жизни, сделал карьеру, удачлив в делах, благополучен в семейной жизни, не теснится в клетушке, а занимает просторную квартиру, обставленную дорогой мебелью. Но наступает момент, когда он осознает, что оторвался от всех, с кем был когда-то близок, и остался в ужасающем, ничем невосполнимом одиночестве. Муки совести вызывают в нем желание закричать так же, как кричит от нестерпимой боли безнадежно больной человек. Муки совести рождают безумное и несбыточное желание «начать все сначала».
Новеллистика Идриса 60-х годов полностью лишена того светлого юмора, который был свойствен раннему творчеству писателя, в ней преобладают мрачные, а зачастую и безнадежные интонации. Изменившееся восприятие мира породило своего рода «обратную» логику художественного мышления. Во многих рассказах конца 60-х годов ситуация, аналогичная уже когда-то изображенной в одном из ранних рассказов, оказывается словно вывернутой наизнанку, истолкованной совсем с иной точки зрения.
Несомненно фабульное сходство рассказов «Вечерний марш» и «Носильщик» — и тут и там изображен человек, шагающий по улице Каира с тяжелой ношей на плечах. Не вызывает сомнений и символическое значение обоих образов. Но в первом случае мысль художника идет от конкретного явления жизни — до масштабов символа возвышается образ человека, в буквальном смысле выхваченного из уличной толпы. Образ создается путем использования пластических, живописных возможностей слова и вбирает в себя все краски, формы, всю диалектику реального мира. Во втором рассказе образ носильщика создается с помощью условных средств, писатель внедряет в уличную толпу фантастический персонаж, моделирует образ, исходя из умозрительной, изначально сформулированной идеи. Полная трансформация логики творчества, природы образа отражает и в корне изменившееся представление писателя о народе, о народном характере.
Смена общественных настроений сказалась на творчестве всех новеллистов, пришедших в литературу в конце 50-х годов. Таков, например, Сулейман Файад. Следуя в русле традиций «новых реалистов», он пишет о жизни народа, о его тяжелой доле, но без свойственного его предшественникам оптимизма и веры в будущее. Первый свой сборник рассказов он называет «Жажда мучит, девушки» (1961). Эти начальные слова свадебной народной песни звучат у Файада как жалоба иссохшей, жаждущей влаги земли и как выражение мечты народа о лучшей жизни. Концовки же рассказов Файада чаще всего трагичны, герои его пассивны и безвольны, они быстро пасуют в борьбе со злом. Но Файад же создает и редкий в египетской литературе образ женщины, которая с чисто мужской решимостью отваживается на борьбу за свои права. Молодая крестьянка Набавийя вступает в противоборство с самым богатым и сильным человеком в деревне хаджи Мухаммедом и… оказывается преданной ее же возлюбленным Рашадом, которого подкупил хаджи Мухаммед.
Во втором сборнике рассказов Сулеймана Файада, названном им «После нас хоть потоп» (1968), горечь автора выражена еще сильнее. Вместе с тем Файад — один из немногих египетских писателей, во все времена и при всех сменах литературных мод и вкусов сохраняющий неизменную верность избранной им реалистической манере изображения и избегающий экспериментов с формой. Тем любопытнее, что в рассказе «Шайтан» (1983), когда поголовное увлечение поисками необычных структур уже осталось позади, Сулейман Файад расширяет арсенал своих изобразительных средств, обращаясь к условности. Вряд ли даже в самом отдаленном и забытом углу великой Сахарской пустыни можно встретить столь первобытное, не знающее о существовании автомобиля племя, как то, которое изображено в рассказе. Джек-лондоновский сюжет о человеке, возвращающемся к родному племени после долгих лет, проведенных в цивилизованном мире, и о том, как соплеменники наотрез отказываются верить его рассказам о достижениях науки и техники, выражает у Файада мысль о невежестве и фанатизме, рождающих жестокость. В рассказе угадывается отклик на возрождение в сегодняшнем Египте тенденций и призывов к консервации традиционных представлений и верований. Поэтому историю, аналогичную той, которую в свое время в рассказе «Намбок-лжец» с юмором поведал Джек Лондон, Сулейман Файад насыщает драматизмом и острой злободневностью.
В 60-е годы к жанру рассказа обращается и крупнейший арабский романист Нагиб Махфуз. Хотя, как и многие его современники, Махфуз начинал писательскую деятельность со сборника рассказов («Шепот безумия», 1938), после этого он на протяжении двадцати с лишним лет создавал только романы.
Анализируя новеллистику Махфуза, египетская критика обращает внимание на то, что «романное» мышление писателя дает себя знать и в построении его рассказов. Действительно, Махфузу свойственно и в коротких новеллах поднимать масштабные общественно-политические и философские проблемы, мыслить не на событийном, а на бытийном уровне. Одной из таких сквозных проблем его творчества является проблема религиозной веры и сомнения, соотношения между положениями религиозного учения и научным познанием мира. В форме диалога девочки-школьницы и ее отца («Ребячий рай») Нагиб Махфуз передает тот внутренний диалог, который он ведет с самим собой всю свою жизнь, который так или иначе продолжается во всех его книгах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: