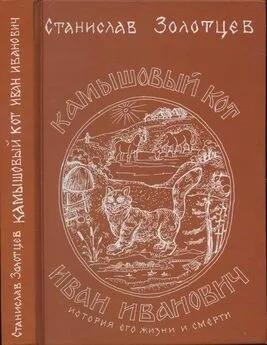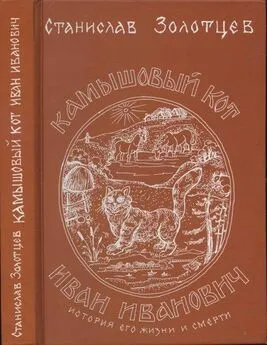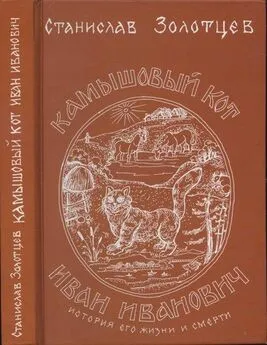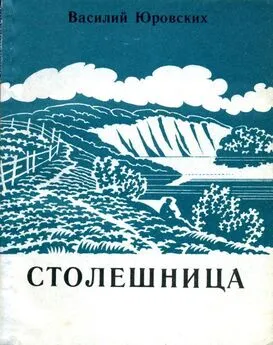Станислав Золотцев - Столешница столетий
- Название:Столешница столетий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новый ключ
- Год:2009
- Город:М
- ISBN:5-7082-0253-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислав Золотцев - Столешница столетий краткое содержание
Повесть Ст. Золотцева «Камышовый кот Иван Иванович», рассказывающая о жизни в сельской глубинке 90-х годов минувшего века, относится к тем произведениям литературы, которые, наряду с эстетическим удовольствием, рождают в душах читателей светлые, благородные чувства.
Оригинальная по замыслу и сюжету сказка об очеловеченном коте написана простым и сильным, истинно далевским литературным языком. Она по сути своей очень оптимистична и хорошо соответствует самой атмосфере, духу наших дней.
Повесть, дополненная художественными иллюстрациями, а также включенное в книгу художественное мемуарное сказание «Столешница столетия», рассчитаны на широкую аудиторию.
(задняя сторона обложки)
Родился в 1947 году в деревне Крестки под Псковом. Трудовую деятельность начал с пятнадцати лет, работая слесарем на одном из псковских заводов. Окончив вечернюю школу, поступил в Ленинградский госуниверситет на филологический факультет. Получив в 1968 году диплом ЛГУ, два года работал переводчиком в Индии, затем преподавал в Историко-архивном институте в Москве. Несколько лет служил офицером морской авиации на Северном флоте. Кандидат филологических наук.
Печататься начал с 1970 года в журналах «Аврора» и «Новый мир». Первая книжка стихов вышла в 1975 году, тогда же принят в Союз писателей СССР. Он автор 25 поэтических книг, трех сборников прозы и четырех книг литературных исследований, а также более 20 книг переводов на русский язык поэтов Востока и Запада, многих статей и очерков по отечественной и зарубежной литературе.
В конце 80-х годов широкую известность С.А. Золотцеву принесли его публицистические выступления в печати, направленные против разрушения отечественной культуры и распада Советского Союза.
[collapse collapsed title=Содержание]
A. Салуцкий. В тени эпохи 2
Камышовый кот Иван Иванович 9
[b]Столешница столетья 127[/b]
Статьи и рецензии 283 Честь, сбереженная смолоду 283
Причудливая песнь Причудья 292
Ничего общего 296
[b] B. Рахманов. Чуткость поэта 302[/b]
[/collapse]
Столешница столетий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
То-то и было хорошо в тех моих гостеваниях под разными крышами ближних и дальних родичей, что я в самом начале жизни своей ощутил, понял, усвоил: все люди — разные. Даже кровно близкие друг другу, «одного корня», всё равно — разные. И должны быть такими. И в каждой семье — свои порядки, и в каждом доме — свой неписаный устав. И это разнообразие естественно и чудесно, иначе и не должно быть в жизни.
В одном доме тебя балуют, зато у них еда почти вся постная и не очень вкусная. А в другом доме родичей очень шумно, до крика, тут могут тебя и за ухо дёрнуть, и пониже спины шлёпнуть, если что не так, но это не беда. Зато у них невероятно вкусные щи, от одного запаха которых голова кружится, а молоко такое духовитое, словно оно всё разнотравье в себя вобрало… А в третьем доме тебя как бы и не очень замечают, вроде ты есть тут, а вроде и нет, но полно в его стенах всяческих интересных вещей и предметов, замысловатых диковин, знакомство с которыми раскрывает тебе глаза на громаду мира. Вот, к примеру, большая морская раковина, из зева которой, если к нему прижаться ухом, доносится шум безбрежной водной стихии, которой ты никогда ещё не видал, но с этих пор буквально заболеваешь мечтой увидеть её… А в четвёртом доме вроде бы всего понемножку, ничего особо примечательного, зато здесь тебе читают такие занимательные книжки, каких ты никогда в своём доме не видел. К слову, писать, пусть и карандашом, и всего лишь поначалу «квадратными» буквами я принялся именно под руководством одного из таких временных моих воспитателей, — то был старик, который и сам иными буквами писать не умел…
Все — разные. И разнообразие людское — одно из главных чудес мира человеческого… Не зародись во мне на самой заре моей судьбы понимание этого — худо бы мне пришлось в жизни, которая вскоре после завершения детства начала швырять меня, словно судёнышко в бурю, с одного борта на другой, из одной людской среды в совершенно иную.
Конечно, постижению сей истины способствовало и пригородное местоположение тех сёл и деревень, где проходило моё раннее детство. «Под крыло» меня брали и такие родственники, что жили в крепких и могучих сельских домах, почти что особняках по меркам тех лет, и такие, кто обитал чуть ли не в избушках на курьих ножках. Да, помнится мне одно такое жильё, не в каком-либо дальнем селении среди болот и чащоб, а в наших же Крестках, где всегда считалось просто зазорным жить в развалюхах. А избёнка, о которой говорю, мне запомнилась как «чёрная», курная, хотя таковой не являлась: половину её занимала огромная русская печь. Но дымила она так нещадно, что брёвна стен изнутри были действительно чёрными, покрытыми слоем сажи чуть не в палец. Под опекой старой бобылки, жившей в этой хижине, я провёл, слава Богу, всего один день, но отмывали меня потом примерно столько же. И до сих пор не могу понять и вспомнить, кем эта старушка нашей семье приходилась и почему меня решились ей отдать даже надень…
II
Но довелось мне быть «переходящим призом» и в тех семьях нашей родовы, что жили в городе. А город есть город, пусть даже и среди областных столиц далеко не самый большой. Ну, кто-то был обитателем окраинных бараков, наскоро поставленных после войны, но некоторые наши городские родичи аж свои собственные, отдельные квартиры имели, на худой конец — большие и светлые комнаты в коммуналках. А иные были собственниками кирпичных или каменных (прежде их звали «мещанскими») домов на окраинах, в слободах. Вот в одном таком «доме с мезонином» я впервые, будучи, кажется, лет четырёх отроду, если не трёх, увидал горящую электрическую лампочку. Сказать, что это зрелище меня потрясло — ничего не сказать! Ведь тогда, вплоть до конца 50-х, даже в пригородных селениях электричества ещё не было. Отчётливо помню, что хозяйку дома (как раз одну из тех сердобольных бабушек и тётушек, которые рады были и малышовым прихотям любимого ребёнка потакать) я в тот день помучил, упрашивая и заставляя её чуть не целый час нажимать на выключатель. Никак до меня не доходило, почему это от нажатия пальцем на кнопку лампочка, находившаяся так далеко и высоко, то вспыхивает, то гаснет. (Откровенно говоря, я и сегодня этого не понимаю…) А ещё мне запомнилось, что именно в таких окраинных домах меня потчевали особо вкусными пирогами, пирожками и пирожными: какой-то неповторимо сладостный аромат в них таился.
И ещё… Как будто из одной эпохи в другую я перемещался иногда в те мои дошкольные годы, гостя то в одном доме нашей родовы, то в другом: настолько далеко друг от друга отстояли те их миры, которые можно назвать духовно-нравственными. В одном доме царила (разумеется, внутри семьи, за пределами дома чаще всего никому неведомая) почти дореволюционная, старорусская патриархальность устоев и нравов, а в другом — сам воздух, казалось, был насыщен словами из «Краткого курса истории ВКП(б)», лозунгами, речами вождей и прочими «правильными суждениями сугубо советской выделки — пионерскими, комсомольскими, партийными…
Однажды случилось так, что дед с бабкой одновременно разболелись, да не просто занемогли, а какой-то нездоровый кашель стал мучить их обоих. Старшая сестра моей бабушки, дав телеграмму моим родителям, взяла меня поначалу к себе: наша деревенская фельдшерица сказала, что ребёнку опасно находиться под одной крышей с людьми, чей кашель является очень тревожным симптомом. У бабы Дупи, моей двоюродной бабушки, в её „мещанском“ частном домике прожил я всего дня два: как на грех, и она слегла, подкошенная приступом застарелого ревматизма. После чего меня на несколько дней передали под опеку родственницы её зятя, потому что она жила неподалёку в таком же слободском домике. Тут-то и началось нечто, для меня, малыша, совершенно небывалое.
Сама баба Дуня была женщиной очень религиозной, более того — глубоко воиерковлённой. И все первые послевоенные, „дохрущёвские“ годы, когда борьба против „опиума для народа“ на время притихла, она почти ежедневно ходила на службы в Дмитриевский храм, ближний к её дому, один из трёх действующих в тогдашнем Талабске. И даже иногда корила свою младшую сестру, родную бабушку мою за то, что та в церкви нечасто, по престольным праздникам да по родительским субботам бывала… Но и сама она, баба Дуня, постанывая от боли, причиняемой ей нежданным и коварным „прострелом“, со вздохом сказала о „своятке“, о родственнице её зятя, в доме которой мне надлежало пробыть некоторое время: „Ох, боюся, затуркает мать Ираклея робёнка, замучит его, прости, Господи, богомольством-то своим нещадным! Я-то внучат своих в неркву за собою не таскаю, им ведь ещё Бог весть в каки года жить придётся: может, опять храмы закрывать начнут властя… Да и матерь ихняя партейная, не допустила б робят до церквы: вот уж доченьку я взростила! Но Ираклея — та никого обочь себя без креста видеть не может, ох, нещадна она в прямоте своей богомольной!..“
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: