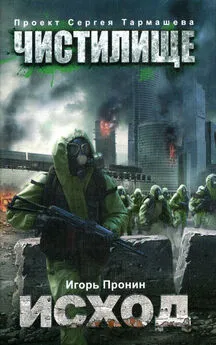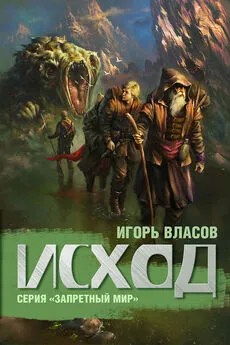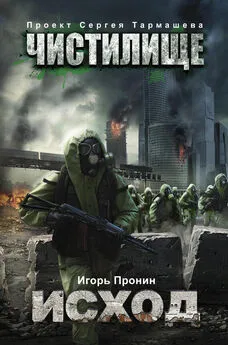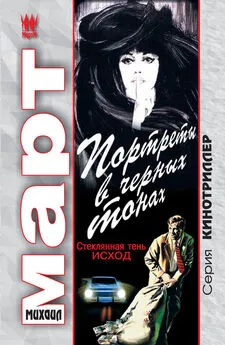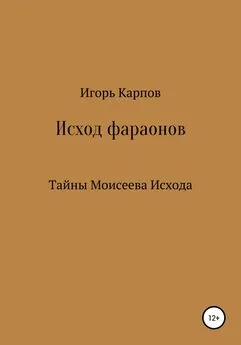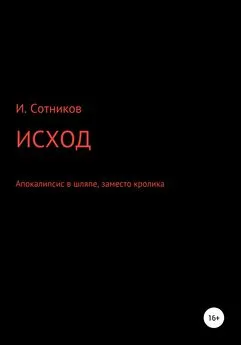Игорь Шенфельд - Исход
- Название:Исход
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издать Книгу
- Год:2012
- ISBN:978-1-476-18170-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Шенфельд - Исход краткое содержание
Нет, не распахивал трехлетний Якоб Шроттке из немецкого поволжского села Гуссарен в июне 1941 года Гитлеру ворота на Москву с востока, и совершенно несправедливо наказана была по этому страшному наговору НКВД вся поволжская республика российских немцев вместе с Аугустом Бауэром, изгнанным из родного дома и депортированным в казахскую степь в сентябре 1941 года: рыть нору рядом с семейством сусликов, чтобы пережить зиму.
Много зим еще последовало после той первой, и много чего довелось пережить Аугусту Бауэру. И Иосифа Сталина с его поздравительной телеграммой посылал он из таежного трудармейского лагеря прилюдно в ж… — но чудом остался жив при этом; и под взрывом первой советской водородной бомбы стоял, и тоже выжил: только шапка на голове загорелась; и целину поднимал Аугуст Бауэр в северном Казахстане, и там же, после того как развалился Советский Союз получил пинка под зад в сторону Саратова. Однако, и в Поволжье ельцинской эпохи ему объявили: «Пошел вон, фашист: твой дом уже занят!».
И Аугуст Бауэр пошел…
Куда он пошел и зачем, и с кем он пошел, и чем все это закончилось — об этом тоже сказано в повести «ИСХОД»
(или «EXODUS» — если придать названию более соответствующий ему по смыслу библейский оттенок).
Ну и еще говорится в повести немножко о Советском Союзе, который развалился скорей всего потому, что поверил когда-то поклепу НКВД на трехлетнего Якоба Шроттке, якобы открывшего Гитлеру дорогу на Москву с восточного направления…
Исход - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Радость! Как много означает радость в жизни зека! Радость на зоне куда важней чем на свободе. Радость и юмор. Скольким заключенным спасли они жизнь! Волшебную силу юмора Аугуст познал в трудармии. До нее, после депортации с Волги Аугуст научился выживать путем отключения мышления. Оказывается, был и другой способ перетерпеть чуму безысходности: юмор. Чуму нужно высмеивать, чтобы она не была страшна. Этому Аугуста научили русские зеки.
Да, русские смеялись. Чем хуже им приходилось, тем громче они смеялись. В бараке шутки делались из всего. Вот пример: притащили одного из карцера — уже полумертвого от голода, положили его на нары, кто-то ему корочку размоченную стал в рот запихивать, а он шепчет: «Ребята, наложите мне лучше в штаны доверху: я буду мечтать, что котлетами обосрался…».
Кстати, о карцере. Он был очень прост: то была глубокая яма, вырытая в земле, накрытая сверху железной решеткой, покрытой брезентом. На дне ямы чавкала вода. Сажали в яму на срок от пяти суток зимой до пятнадцати — летом. Без еды, без воды. Вода просачивалась сверху, и ее можно было лакать, или слизывать со стен, пока оставались силы. Зимой брезент заметало снегом до метра и выше. Зимой мало кто выживал в яме. Но все равно это был не ерофеевский «штрафбат»: там умирали сотнями, тут — десяток-другой за год — не больше. И то зимой только. А летом выживали спокойно. Дополнительным плюсом «горецкой ямы» было то, что в нее сажали не столько трудармейцев, сколько урок — за отказ работать. Поэтому блатные Горецкого люто ненавидели, а трудармейцы — за это же — почти что обожали Агрария Леонтьевича своего. По принципу: «Враг моего врага — мой друг». Трудармейцам Горецкий был, конечно, еще тот «друг», но тем не менее падеж у него в лагере и вообще на промзоне был минимальным в сравнении с тем же ерофеевским и многими другими лагпунктами. В большой степени благодаря гороху. Горецкий кормил свой лагерь исключительно горохом. То ли сам его так любил, то ли вагон лишний заныкал когда-нибудь по случаю: факт тот, что на складе гороху было много. «Качественный лес в обмен на качественный горох» — это был не просто лозунг — это была политическая платформа полковника Горецкого. Горох и юмор: это были два механизма, с помощью которых Аграрий Леонтьевич Горецкий держал производство на высоте. За это его и любили. Юмор у Горецкого был сногсшибательный в буквальном смысле: он, например, любил подойти вплотную к новенькому зеку, стоящему в шеренге, и приказать ему: «Дыхни». В тот момент, когда ничего не подозревающий зек набирал воздух, Аграрий резко выбрасывал вперед свой круглый живот, и зек улетал в падении метра на три и падал навзничь, не понимая что с ним приключилось. «Ну ты и дохнул, блядина!», — произносил начальник, и весь плац заходился смехом. Горецкий довольным, пузатым петушком покидал плац. Это был его юмор: так он поднимал настроение своим бойцам леса. Иногда он предлагал — тоже для юмора — потолкаться животами с кем-нибудь из зеков. «Ну! Едрена бобики! Выходи на бой, которые смелые!», — кричал он лихим голосом Ильи Муромца, — что, слабо, засранцы?». Конечно, засранцам было слабо. Храбрые, может, и нашлись бы, да толкаться было нечем — горбом разве что… Но то был юмор. За незлое, примитивное чувство юмора Горецкому многое прощалось.
Юмор — великая сила. Смех — великий лекарь духа. Это — не пустые слова. Это — рецепт выживания. И рецепт долголетия, наверное, тоже; правда, чтобы такое утверждать нужно сначала прожить долго… Почти год еще, до самой демобилизации учился Аугуст Бауэр у своих товарищей, русских зеков — соседей по нарам и напарников по пиле — этому искусству: долго жить. А год — это единица бесконечности по лагерному времяисчислению. Это почти что вечность, а ведь вечно не живут. Поэтому дольше года прожить на лесоповале удавалось далеко не каждому. Загибались даже такие жилистые, как Аугуст: стоило один раз подхватить инфекцию, или серьезно пораниться, или надорвать спину, или неправильно распределять дневной паек неделю подряд; стоило один только раз сорваться с жестокой карусели сплошного, ежедневного трудового подвига, и дальше начиналось медленное поначалу, но все убыстряющееся сползание в пропасть: все меньше сил, все больше перегрузок, от которых силы тают еще быстрей, и вот уже все, конец: сил не хватает не то что на норму, а чтоб до леса дойти. Этот симптом — уже признак доходяги. А доходяги долго не живут: потому так и называются. Легкая работа в лагпункте хотя и имелась, но конкурс дистрофиков на такие работы — шить, подметать, чистить сортиры, копошиться в мастерских, на кухне, при санблоке — был огромный: крайние в очереди на легкие работы не успевали дождаться и умирали в тайге, на лесоповале, тяжелой гирей дополнительного труда затягивая своей немощью в пропасть остальных членов бригады, у которых имелся выбор: «тянуть» норму дистрофиков или убить их всех к черту. Разумеется, тянули норму, медленно убивая себя.
Но в бригаде у Буглаева был полный порядок. Буглаев на «Свободной» промзоне — это был тот же Нагель из ерофеевского лагеря, но только еще сильней, решительней и храбрей. Это был могучий характер, сильнейшая воля, такая сильная, что — давно подмечено было трудармейцами — собаки охраны, взглянув на Буглаева, и те затыкались и даже начинали жалобно повизгивать. Сами солдаты-вертухаи и лагерные офицеры не задирались с Буглаевым. А учетчики и вовсе робели перед бригадиром восьмой бригады, хотя дрался он редко. Но знали все: пообещает — сделает; пригрозит — исполнит. А исполнит — так качественно: недаром был республиканским чемпионом по боксу в юношеские годы. Отписок на сторону в бригаде Буглаева не существовало — за пределами того, что он сам отдавал «для дела». Так например, узнал позже Аугуст, за него, за то, чтобы заполучить его в свою бригаду, отдал Буглаев сто пятьдесят кубов леса. Правда, эта его бригада и «ломала» по три нормы. Фотография Буглаева красовалась на доске почета возле конторы, и который месяц поговаривали, что ему скоро медаль повесят, или трудовой орден какой-нибудь дадут.
Сам по себе Буглаев большим балагуром не был, и большую часть времени пребывал в довольно-таки мрачном расположении духа, но юмористов всячески поощрял. «Люблю веселых», — говорил он, зная за юмором удивительную способность держать вертикально людей, потерявших уже, казалось бы, все последние силы без остатка, и чудодейственным образом вести их дальше сквозь лагерный мрак, подобно тому, как барон Мюнхаузен вытаскивал сам себя за волосы из трясины.
Много ли найдется психиатров на белом свете, которые смогли бы оценить, скольким зекам спас жизнь юмор? Он был разный в лагере — в основном грубый и примитивный, по типу лопухов для Заечика, или «горохового оркестра», о котором речь впереди, или в форме разного рода подтруниваний над теми, которые это проделывать над собой позволяли. Так, много забавы доставлял лагерной публике заключенный по фамилии Фондяев-Копчик: вологодский добродушный великан, потомок давным-давно обнищавших помещиков, за этот факт и посаженный в первый раз еще в начале двадцатых. Он отсидел, вышел, его снова забрали, выпустили, опять арестовали, он еще раз отсидел, вышел, и до того привык к ходкам, как к командировкам, что вообще не удивился, когда его в очередной раз подгребли в трудовую армию. В прошлом он крестьянствовал, плотничал в артели, умел и кладку ложить, и кузнечным делом владел немножко: в общем, отлично вписывался везде, где работают руками, и при всех обстоятельствах оставался неизменно добродушен и незлобив, за что и был ценим братством по нарам, а в особенности за то любим, что повышал градус радости в бараке, позволяя потешаться над собой, вернее, над своей чудной двойной фамилией, отвечая на все подколы однообразно, с улыбкой и уютным вологодским «о»: «Да пОшОл ты в жОпу, тОварищ дОрОгОй!». И как его только не донимали: каждый изощрялся в меру своих умственных способностей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: