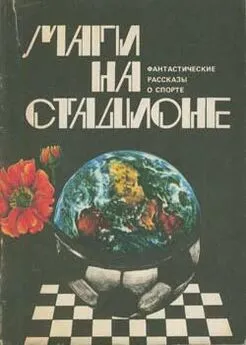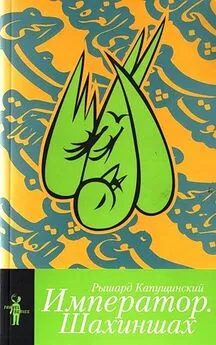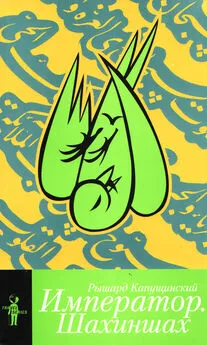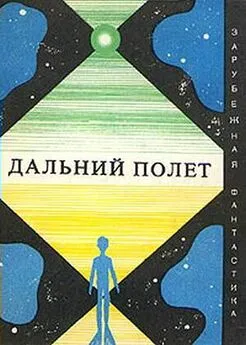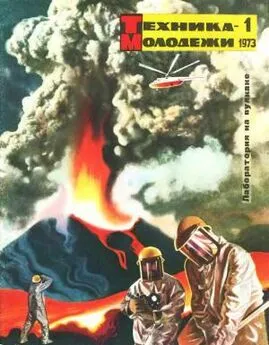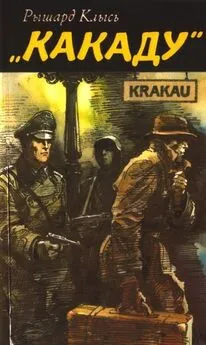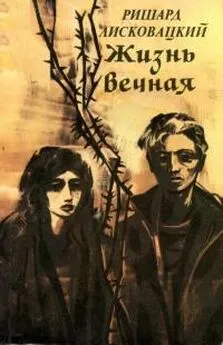Рышард Капущинский - Путешествия с Геродотом
- Название:Путешествия с Геродотом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-608-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рышард Капущинский - Путешествия с Геродотом краткое содержание
Рышард Капущинский (1932–2007) — крупнейший польский репортер и писатель. Он объездил весь мир, был свидетелем нескольких десятков войн, переворотов и революций. Перед читателем портрет Геродота — первого великого репортера древности, написанный пером одного из крупнейших репортеров современности. Фоном для истории войн древних греков и персов Капущинский делает события политической истории XX века и свой собственный путь как журналиста и писателя.
Путешествия с Геродотом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я вернулся в гостиницу. Открыл Хемингуэя и начал с первого предложения: «Не lay flat on the brown, pine-needled floor of the forest, his chin on his folded arms, and high overhead the wind blew in the tops of the pine trees». Ни слова не понял. У меня был маленький карманный англо-польский словарик, другого в Варшаве я не смог достать. Нашел только слово «brown» — коричневый. Стал читать дальше: «The mountainside sloped gently…» Опять с тем же результатом. «There was stream alongside…» По мере продолжения попыток понять хоть что-нибудь из этого текста во мне росли отвращение и отчаяние. Я почувствовал себя в ловушке, обложенным со всех сторон. В тот момент язык показался мне чем-то материальным, чем-то существующим физически, стеной, которая встает на пути и не дает возможности идти дальше, закрывает от нас мир, так, что мы не можем в него проникнуть. В моем ощущении было что-то досадное и унизительное. Здесь, возможно, и кроется объяснение, почему человек при первом контакте с кем-то или чем-то незнакомым ощущает страх и неуверенность и, полный бдительного и подозрительного недоверия, напрягается. Что принесет эта встреча? Чем завершится? Лучше не рисковать и оставаться в защитном коконе привычного! Лучше не высовывать нос за ворота!
Подчинившись первому инстинктивному порыву, я, вполне вероятно, убежал бы из Индии и вернулся домой, если бы не обратный билет на пассажирское судно «Баторий», курсировавшее тогда между Гданьском и Бомбеем. Билет был, а судна не было: в это время президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий канал, на что Англия и Франция ответили вооруженной интервенцией. Вспыхнула война, канал заблокировали, «Баторий» остался в водах Средиземного моря. Вот так, отрезанный от родины, я был приговорен к Индии.
Брошенный туда, где глубоко, я все-таки не хотел тонуть. И понял, что спасти меня может только язык. Я задумался: а как же Геродот, путешествуя по свету, справлялся с языковой проблемой? Хаммер пишет, что кроме родного греческого Геродот не знал никаких языков, но поскольку греки были в то время рассеяны по всему миру, везде у них были свои колонии, свои порты и фактории, то и автор «Истории» мог прибегнуть к помощи земляков, служивших ему переводчиками и проводниками. Кроме того, греческий был lingua franca тогдашнего мира, многие в Европе, Азии и Африке говорили на этом языке, который позже заменила латынь, а еще позже — французский и английский.
Не имея возможности вернуться, я был вынужден поднять брошенную судьбой перчатку. Я начал день и ночь вбивать в свою голову слова. Голова трещала, я обвязывал ее холодным полотенцем, но не расставался с Хемингуэем. Теперь я пропускал непонятные описания и читал диалоги, они были полегче.
«— How many are you? — Robert Jordan asked.
— We are seven and there are two women.
— Two?
— Yes» [4] «— Сколько вас? — Спросил Роберт Джордан. — Семеро, и две женщины. — Две? — Да.» (англ.)
.
Все это я понял! И вот это:
«— Augustin is a very good man, — Anselmo said.
— You know him well?
— Yes. For a long time» [5] «— Агустин — очень хороший человек, — сказал Ансельмо. — Вы его хорошо знаете? — Да. Уже давно» (англ.)
.
Это я тоже понял. Настроение улучшилось. Я ходил по городу, делая заметки по поводу надписей на вывесках, названий товаров в магазинах, слов, услышанных на автобусных остановках. В темноте кинотеатров на ощупь записывал субтитры, копировал лозунги с транспарантов, которые несли встреченные на улице демонстранты. Я пробирался к Индии не через картины, звуки и запахи, а через язык, причем не родной для Индии, а иностранный, навязанный, но настолько укоренившийся, что он стал ассоциироваться с этой страной, а для меня превратился в палочку-выручалочку. Первый раунд моего поединка с Индией состоял в преодолении языка. Я понял, что у каждого мира есть своя тайна и что постичь ее можно только на пути освоения языка. Иначе этот мир останется для нас непреодолимым и непонятным, хоть бы мы прожили там долгие годы. Более того, я заметил связь между названием предмета и его присутствием в моей жизни, потому что каждый раз, возвращаясь в гостиницу, я отмечал, что видел в городе только то, название чего я знал; например, я помню акацию, но не помню росшее рядом дерево, название которого было мне неизвестно. Короче, я понимал: чем больше слов я узнаю, тем более богатый, полный и пестрый мир откроется передо мной.
Все эти дни по прилете в Дели меня мучила мысль, что я не работаю как репортер, не собираю материалы к текстам, которые хочешь не хочешь, а придется писать. Я ведь не в турпоездку отправился! Меня послали для того, чтобы я отчитался, передал, рассказал. Между тем руки мои были пусты, я не чувствовал себя способным что-либо сделать, я даже не знал, с чего начать. Я ведь не просился в Индию, о которой не имел понятия, я мечтал только пересечь границу все равно какую, все равно в каком направлении, пересечь границу — только это, ни о чем больше я не мечтал. Но теперь, когда суэцкая война сделала мое возвращение невозможным, мне оставалось лишь идти вперед. А потому я решил отправиться в путь.
В моей гостинице мне посоветовали поехать в Бенарес — Sacred town! [6] Священный город (англ.)
— так они объяснили мне. (Я уже успел заметить, сколько в Индии священных вещей: священный город, священная река, миллионы священных коров. В глаза бросалось, как сильно мистика проникает в здешнюю жизнь, сколько храмов, часовен и встречаемых на каждом шагу придорожных алтариков, сколько возжено огня и благовоний, у скольких людей на лбу ритуальные знаки, сколько сидит неподвижно, уставившись в какую-то неведомую мистическую точку.)
Я прислушался к советам и поехал автобусом в Бенарес. Путь туда лежит по долине Джамны и Ганга, по земле плоской и зеленой, через пейзаж, утыканный белыми силуэтами крестьян, бродящих по рисовым полям, тюкающих мотыгами по земле, несущих на голове снопы, корзины или мешки. Но картина за окном часто менялась, потому что округу постепенно заполняла большая вода. Стояла пора осеннего половодья, когда реки превращались в бескрайние озера и моря, а по их берегам кочевали босоногие беженцы, пострадавшие от наводнения. Они бежали от поднимающейся воды, не теряя с ней контакта, уходя лишь настолько, насколько необходимо, чтобы немедленно вернуться, когда вода начнет спадать. В невыносимом зное пылающего дня от воды шел пар, и надо всем стоял недвижный молочный туман.
В Бенарес мы приехали поздним вечером, практически ночью. Город, похоже, не имел предместий, постепенно подготавливающих к встрече с центром, потому что сразу из темной и пустой ночи мы въехали в ярко освещенный, запруженный народом и шумный центр. Почему эти люди так теснятся, давят друг друга, лезут друг на друга, если рядом столько свободного пространства, столько места для всех? Я вышел из автобуса и пошел на прогулку. Дошел до границы Бенареса. С ее внешней стороны — в темноте лежали мертвые, безлюдные поля, с внутренней — внезапно вырастали городские постройки, а город от самой границы своей был полон народа, суеты, света, громкой музыки. Этой потребности жить в тесноте, тереться друг о друга и постоянно толкаться в то время, когда рядом есть свободное место, я объяснить не мог.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: