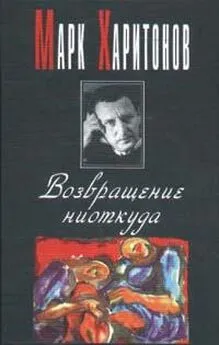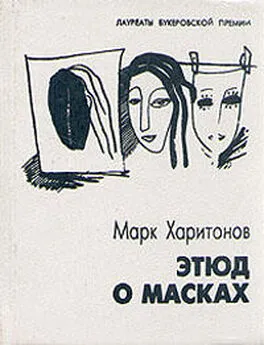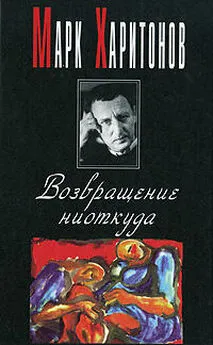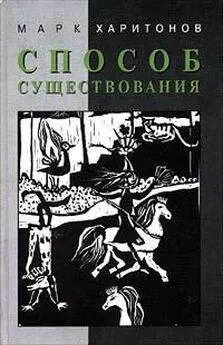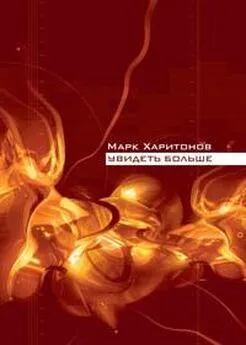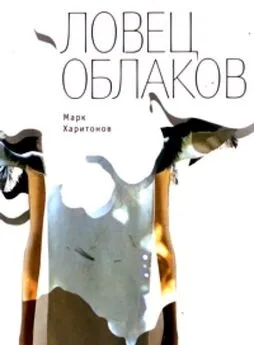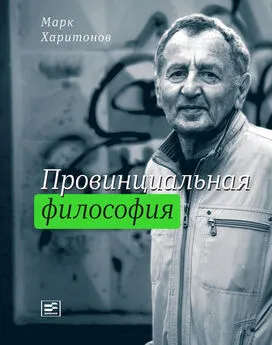Марк Харитонов - Провинциальная философия
- Название:Провинциальная философия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:http://imwerden.de - некоммерческое электронное издание
- Год:2010
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Харитонов - Провинциальная философия краткое содержание
Заглавная повесть одноименной трилогии, в которую входят также повесть «Прохор Меньшутин» и роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича». Написана в 1977 г., опубликована первоначально в журнале «Новый мир» в 1993 г., затем в книге «Возвращение ниоткуда» (1998). Публикуется по «Новый Мир» 1993, № 11
Провинциальная философия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поезд плыл среди весенних разливов. Земля была неустроенна и прекрасна. День заново праздновал очередной юбилей творения. Воздух неизвестно отчего ликовал. Столбы с перекладинами тянули руки, притворяясь, что хотят зацепить. Ветви проносились мимо окон, они были без листьев, но кожа их оживала, и стволы осин зеленели. Какое-то из окон в вагоне уже было открыто, горький угольный запах, свежесть воды и холода просачивались в настоянную духоту ковчега, объединявшего сейчас вот этих людей, которые дремали, читали, покачиваясь в общем ритме, играли в карты, положив чемодан на колени; общим было сердечное биение стыков, и поезд нес их всех куда-то за изгиб земли, в расступающееся пространство.
Глава третья
Вот бывает: как ни осмотрителен человек, но жизнь подстережет, подсунет непредвиденное — и не увильнешь, не уклонишься. То есть уклониться, допустим, можно, тут уж действительно вопрос чести. Но не так оно просто. Угодишь, скажем, на бедолагу, которому надо помочь, денег там дать или чего еще. Не застань он тебя в этот час дома, возьми несколько шагов в сторону, столкнись с другим, ты бы о нем и знать не знал, продолжал бы с чистой совестью деловое свое движение или заслуженный отдых. Но нет, навела судьба на тебя, и ты с покорным вздохом лезешь в карман — потому что тут именно судьба; это как угодить под трамвай или подхватить заразу из воздуха. Или, скажем, заиметь в семье калеку, больного, убогого от рождения — ничего не поделаешь, станешь нести свой крест. Хотя человеку более волевому и твердокаменному такие примеры покажутся, может, не наглядными, а главное, разнородными. Подхватить нам самим болезнь или нет, заметит он, — мы не выбираем и только можем позаботиться о профилактике, относительно же других людей распорядиться вольно по-разному. Тоже не поспорить, да и не надо; это так, к слову. В любом случае самый спокойный, незамутненный, отстоявшийся человек не всегда подозревает и не хочет подозревать, что у него на донышке, пока обстоятельства не схватят, не встряхнут, не перемешают, словно предлагая осуществиться сполна и оправдать отнюдь не поверхностный замысел. Философы вообще утверждают, что с человеком случается в конце концов то, к чему он предрасположен. Это, говорят они, так же верно, как утверждение, что с человеком случается именно то, чего он боится. Ибо он боится как раз того, к чему предрасположен, и отсюда начинается судьба. Не ее ли дыхание раздувает порой затаившийся уголек тревоги перед будущим, перед темным простором, в который нас несет на закрученном волчке, на неуправляемом суденышке? — лучше не вникать в это, пока не припечет. И крикнуть бы «чур-чура», как в детских играх, когда последним усилием пробуешь ускользнуть от уже настигающего топота, объявив себя выключенным из игры. Но признают ли за тобой это право? Осалят.
На что рассчитывал Антон Андреич Лизавин, увозя со станции в город безответную и, заметим, не особо знакомую ему красавицу? Что вдохновляло его на такое несвойственное его характеру гусарство? Внятно бы он, пожалуй, вряд ли ответил. А что же его пресловутый внутренний голос? Он явно осекся от неожиданности, а может, и с досады, что не был принят во внимание. Да, диалог со здравым смыслом заглох, попросту был замят, так что можно сказать, Антон Андреич действовал вполне безрассудно. Однако не приходилось сомневаться, что скоро честный оппонент придет в себя и еще вставит не одно ехидное словцо.
На самое первое время у Антона были, конечно, конкретные планы, и Зою вез он, разумеется, не к себе, как кто-то, может быть, поспешно и легкомысленно уже вообразил. Не так это, знаете, просто. Нет, рассчитывал он для начала на тетю Веру, она в былые времена многим давала приют; а там будет видно. Старуха и впрямь приняла просьбу без удивления, Зою встретила как давнюю знакомую, которую по старческой слабости просто успела забыть. Спросила: «Ты чья?» — и, услышав от Антона фамилию, приподняла над очками брови, зашевелила губами, стала припоминать, высчитывать — и что-то ведь даже вспомнила. Этого было достаточно; лучшего слушателя для разговоров, которые она давно уже вела сама с собой, ей было не найти.
Но что же все-таки дальше? Антон Андреич подозревал, что о продолжении должен позаботиться сам. Нельзя сказать, чтоб он совсем не перебирал планов и вариантов, однако планы и варианты эти получались пока такие несолидные, с такими романтическими даже заскоками, с такими вольными намеками воображения, что передавать их как-то и неловко, тем более что они отвлекались от первостепенных реальных очевидностей. Ну, например: хоть на ближайшее время, а Зое как-то надо было есть, пить, готовить, а значит, выходить на общую кухню, наконец (не обессудьте за подробность), раздобыть и ключ от известного сарайчика. В любом случае ей предстояло столкнуться с соседками, которые, между прочим, до нее обихаживали и снабжали сидячую Веру Емельяновну. Ах, соседки! Про них кандидат наук меньше всего думал — и напрасно. Потому что, пока он успокаивался после бурных событий дня, лежа на застеленной кровати с никелированными шишечками и наполняя воздух радужными пузырями своих планов, они-то о нем думали — именно о нем, и как думали! Если ему не икалось, то лишь из-за опасной беспечности его натуры.
Поймут ли наши потомки, что такое соседка, да еще в русской провинции? Это парламент, Скотленд-Ярд и прокуратура, это стихийное явление, это общественное мнение и общественная инстанция, где скрестились традиции российских кумушек с нравами коммунальных квартир. Непосредственно у Антона Андреевича, в короткой части буквы Г, по Кооперативной, соседок не было, но со стороны тети Веры, по Кампанелле, — сразу две, и обе уличные активистки. Одна — Елена Ростиславовна Каменецкая, уже знакомая нам владелица Долли и бывшая актриса. Теперь это была одинокая пожилая дама, вся такая трепетная, с острыми слабыми плечиками, легкие косточки полны воздухом, как у птицы, лицо, издержанное на легковесные роли, совсем маленькое — не лицо, а личико, и улыбка — неуверенная обезьянка былого очарования. Все, что заполняло некогда ее жизнь, перемололось в муку, не оставив ни любви, ни привязанностей — кроме страсти к единственному близкому существу, Долли. Эта любовь и вдохновляла всю ее активность: со свирепостью, которой никто не мог ожидать от столь трепетного существа, она ограждала ближнюю территорию от бродячих собак, которые могли сделать с ее Долли что-нибудь нехорошее. Немного стесняясь открытой деятельности, она писала в разные инстанции анонимки с требованием уничтожать повсеместно и любыми средствами этих беззаконных тварей. Когда в один прекрасный день она обнаружила, что, несмотря на неусыпный надзор, такса все же готова ощениться (как? с кем? когда она могла успеть? — и, между нами говоря, кто мог соблазниться такой уродиной?), Елена Ростиславовна пережила это как позор дочери. Она даже уехала на время из города, чтобы Долли разрешилась от бремени втайне. Тоня, которая про все собачьи дела знала, посмеиваясь, говорила Антону, что могла бы этой тайной шантажировать старуху. Да, уж Эльфрида Потаповна Титько много бы дала, чтобы о ней проведать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: