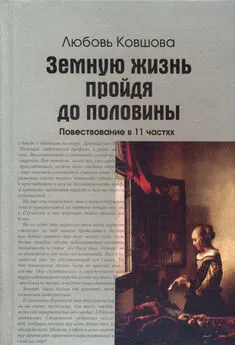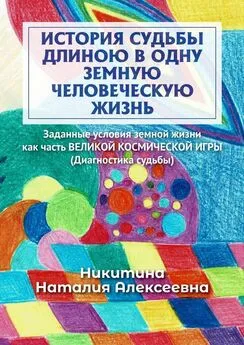Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины
- Название:Земную жизнь пройдя до половины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины краткое содержание
Любовь Ковшова определила жанр своей книги как «повествование в 11 частях». Звучит скучновато, но, похоже, более точное определение подобрать трудно. Слишком явно выбивается эта книга из привычного ряда литературных колодок-выкроек. Мемуарно-автобиографическая канва, вроде бы обязанная взять на себя роль заместительницы сюжета, постоянно рвётся. Повествовательные пласты, подобно «возмущенным», пришедшим в движение пластам земной коры, смещаются. Повествователь — обладатель, по определению, ровно-раздумчивой, отстраненно-умудренной интонации — посылает к чёрту все ролевые ограничения и — просто живёт, представляете? Живёт жадно, молодо, бесстрашно, озарённо. Ошибаясь, собирая все острые углы, запинаясь, падая, не сдаваясь. Размышляя, сомневаясь, продираясь сквозь терновые заросли «бесспорных житейских истин».
Земную жизнь пройдя до половины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мы сидим с тобой в коридоре на подоконнике, и ты пришиваешь мне к пальто пуговицы. Они у меня постоянно отлетают с мясом.
Я болтаю ногами и несу несусветную чушь о смысле жизни.
В нашу сторону по темноватому коридору набегает Генка из моей группы, разглядев, что мы вдвоем, тормозит, машет руками:
— Ладно, ладно, я потом.
Ты недобро провожаешь его взглядом и говоришь:
— Познакомила бы. Такой бойкий молодой человек!
Я обижаюсь. У Генки один глаз искусственный, отчего Генка плохо видит. И я не понимаю, за что ты на него так.
А вечером у памятника защитникам 1812 года, который почему-то зовется у нас «Викингом», ты сказал, что, наверное, любишь меня. Помолчал и, глядя на взбирающегося по скале воина, добавил, что а вот я вряд ли смогу тебя полюбить.
Мне первый раз в жизни объяснялись в любви, но было это совсем не так, как мечталось, — никакой романтики! — и во мне все было не так: недоумение, растерянность, даже протест: «Ну, зачем, зачем решать за меня?!» И я не знала, что со всем этим делать.
Мой год в Смоленском педагогическом институте имени (как мы язвили) лошади Пржевальского был наполнен разным. Тут сама учеба с практикой то в школе, то в больнице — мы должны были ко всему стать медсестрами; тут и драматическая студия и какой-то радиокружок, комсомольские субботники, фехтование, друзья и недруги, бесконечные стихи, нехватка денег до стипендии… Разве все назовешь?
Но странно, оно куда-то бесследно ушло, не задев сердца. А осталось то, что осталось: все оттенки переживаний и событий, связанных с первым чувством.
И кроме них мне здесь больше нечего предложить.
Мы бредем лесной просекой где-то за Смоленском. Вдоль нее провода на растрескавшихся от времени столбах. Мы уже уходились, но возвращаться неохота.
Ты вытаскиваешь перочинный нож, кидаешь в столб. Нож отскакивает от столба в сторону.
— Дай мне, — прошу я.
Ты вроде бы усмехаешься, когда протягиваешь нож.
— Хочешь, вон в ту щель попаду? — говорю я нахально.
Нож летит в щель и, воткнувшись в нее, тоненько звенит лезвием. У тебя удивленно вздергиваются брови:
— А ну еще разок!
Но я знаю, что авантюры удаются только однажды, тем более, что раньше метать ножи мне не приходилось, и гордо отказываюсь:
— Зачем? И так все ясно.
Ты хохочешь, падаешь в стожок сена, что возле столба, поднимаешь кверху руки:
— Ну, все. Сдаюсь.
Я валюсь рядом, ты подсовываешь свое плечо мне под голову, и мы долго лежим и смотрим в небо.
Слышно, как шуршат падающие листья и стучит твое сердце. И я вдруг думаю, что буду помнить этот торопливый стук всю жизнь.
Удивительное дело! В 18 лет мы знали о себе все наперед, на всю жизнь. Только это знание было рассыпано крупицами в нечаянных мыслях, по дневникам, письмам, стихам и не воспринималось как истина.
Это я сейчас вижу, как точно оно было.
…Только надо мне жить
Без тебя, без тебя.
Написано как раз в то время. Там ничего еще не решено и нет речи о расставании, одна лихорадка: «горячо — холодно». А вот, — на ж тебе! — такие трагедийные ноты в стихах.
Мы встречаемся по три раза на дню, ссоримся и миримся, выясняем отношения и то, что я — «неласковая», ходим в кино, бегаем на свидания у Викинга, стараясь по дороге не встретиться (это из одного-то общежития к одному и тому же месту и времени!), болтаем до пяти утра на черной лесенке и опять ссоримся и миримся. И все неясно, все как в тумане.
А время бежит, и уже зима, и нарядный снежный Смоленск.
Кафе-стекляшка в парке старинно, по-французски называемом Блонье, по-нашему просто Блонь. Снаружи к стеклам лепится мокрый снег, и хочется плакать. Комом в горле обида, хоть я не могу разобраться, на что она.
Было-то всего ничего.
В вашей комнате, пустой с утра, ты рисовал мой портрет, закусывая край губы и щуря глаза. Изредка бросал: «Не вертись!» — и снова шуршал карандаш, и твои глаза переходили с бумаги на меня и обратно. И если б ты рисовал не меня, а табуретку, они б выражали то же самое.
Дойдя до этого места, я чувствую, как со щеки жарко срывается слеза и булькает в стакан с чаем.
Надо же, я тебя, кажется, ревную.
«Я тебя сегодня опять люблю», — от этих слов я беленела. Полная неопределенность и никаких обещаний на завтра. А ты просто хотел быть со мною честным.
Я не понимала или не желала понять? А должна была. Ведь сама металась все время не только между: «любит — не любит», но больше между: «люблю — не люблю».
Вопросы эти решались то так, то иначе, и я, вообще, ничего не говорила тебе о любви.
Из дневников.
15 декабря.
«Я не знаю, что такое любовь, но если это такое состояние, что человек необходим тебе, что тебе хочется, чтобы ему было хорошо, и в тоже время стараешься вымотать ему все нервы, то я его люблю.»
19 декабря.
«Я чувствую, что уже не нужен ей. Есть новые друзья, увлечения, заботы. Я не могу соперничать со всем этим, а честнее, и не хочу».
И год спустя из твоего письма.
«Вообще все было достаточно странно. Я и тебя любил какой-то странной любовью. Мне порой почему-то хотелось сделать тебе больно. Почему? Я этого не понимал и не понимаю».
Вот такие пироги! — как ты любил говорить.
А, между тем, мне бывает до одурения хорошо порой, и для этого нам не обязательно быть вместе. Хватает подаренной фотографии, с которой я ношусь, как известный дурак с писаной торбой, или того, что ты встречаешь меня с фехтования, когда я не иду с тобой, а убегаю с девчонками другой дверью, словно боюсь расплескать наполняющее меня до верху чувство счастья.
И вдруг все кончается. Я даже не успеваю понять — почему?
III
«Я с тобой больше дружить не буду,» — слова какие-то детские, беспомощные, будто: «Я с тобой больше не играю», но от них я глохну. Звуки проходят, как сквозь вату, тупые и неразборчивые, и я почти не понимаю, что ты говоришь. Смутно-смутно о том, что я все-таки не ребенок и надо думать, как со мной людям. В общем, то же самое: «Ты — плохая, я с тобой не вожусь». И что я не думаю о тебе. И что мне всегда будет нужен кто-то другой…
За окном декабрьская оттепель, полощется на веревке белье, и я не могу оторвать глаза от этих белых полотняных крыльев. Мне не больно и не обидно, меня просто больше нет, и я ничего не могу тебе ответить.
Здесь я надолго застреваю. Писать историю этой ссоры не хочется, да я и не знаю — как. Придется вводить новую героиню — глаза б мои ее не видели, хоть она из самых красивых на курсе: стройная, кареглазая, с капризными губами и тяжелым пуком волос. Но если в мою жизнь она могла непрошено вмешаться, то в повесть-то я могу ее не пустить?!
Оказывается, не могу!
Все началось с одной записки в конце октября.
Записки на лекциях — обычное дело, у меня ими заложены все тетради. Но тут пришло целое послание — на четырех страницах в линейку незнакомым женским почерком.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: