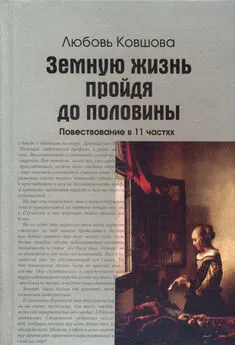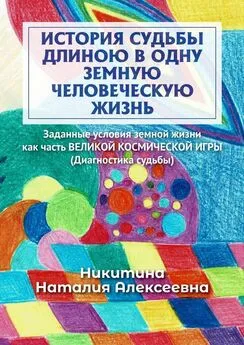Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины
- Название:Земную жизнь пройдя до половины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины краткое содержание
Любовь Ковшова определила жанр своей книги как «повествование в 11 частях». Звучит скучновато, но, похоже, более точное определение подобрать трудно. Слишком явно выбивается эта книга из привычного ряда литературных колодок-выкроек. Мемуарно-автобиографическая канва, вроде бы обязанная взять на себя роль заместительницы сюжета, постоянно рвётся. Повествовательные пласты, подобно «возмущенным», пришедшим в движение пластам земной коры, смещаются. Повествователь — обладатель, по определению, ровно-раздумчивой, отстраненно-умудренной интонации — посылает к чёрту все ролевые ограничения и — просто живёт, представляете? Живёт жадно, молодо, бесстрашно, озарённо. Ошибаясь, собирая все острые углы, запинаясь, падая, не сдаваясь. Размышляя, сомневаясь, продираясь сквозь терновые заросли «бесспорных житейских истин».
Земную жизнь пройдя до половины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Любовь Ковшова
Земную жизнь пройдя до половины
(Повествование в 11 частях)

Спасибо, что вы выбрали сайт ThankYou.ru для загрузки лицензионного контента. Спасибо, что вы используете наш способ поддержки людей, которые вас вдохновляют. Не забывайте: чем чаще вы нажимаете кнопку «Спасибо», тем больше прекрасных произведений появляется на свет!
Отец
Веденьё… Всю жизнь думала, что оно от глагола «ведать», от ведунов и ведьм, озорничавших когда-то под луной в этот языческий, таинственный праздник. И вдруг оказалось, что оно от постного христианского «Введения во храм». Но в памяти детства оно все равно полно чудес.
Снежный декабрь. Маленькая деревенька. Веденьё… Пиликает гармошка, вздыхает потертыми от старости мехами.
Мой миленочек уехал
И зовет меня туда.
А куда же я поеду,
Мои юные года!
«Юным годам» за семьдесят, обличием вылитая Баба-Яга, но не злая, а простодушная, впрочем, с небольшой хитринкой.
Сыплет, сыплет гармонист хриповатые страдания, и Баба-Яга вовсю страдает:
Эх, страданье
Черт бы взяло!
По тебе
Я вся извяла.
Пыхает керосиновая лампа с закопченным стеклом, на минуту освещая бревенчатое нутро избы, лохматый серый мох между бревен, драный бок русской печки, обитую жестью колоду ручной мельницы, ситцевую занавеску над кроватью, зеленую самогонную бутыль на столе.
Жутковато и страшно интересно.
А в соседней комнате, уронив с головы на стол тяжелые косы, задушенно плачет моя мама, шепотом повторяя сквозь плач:
— Куда ты меня завез? Куда ты меня завез?
И молча курит у низенького окна отец, и несутся за окном сивые космы вьюги.
Наутро ни косм, ни сказки не было. Улыбалось яркое солнце, улыбалась всеми морщинами хозяйка Степанида, ловко притворялась, что никогда не бывала Бабой-Ягой.
Так, зимой 51-го, приехали мы из Москвы на Смоленщину, куда отца послали поднимать разрушенное войной сельское хозяйство.
Отцу вообще везло на переезды и странствия. Орловщина и Смоленщина, Румыния и Подмосковье, Сибирь и Алтай, Жиздра и Самара, Тула, Киев, Львов, Калуга, Бийск, Москва — далеко не полный список. Жизнь изрядно помотала его по свету.
Девятнадцатилетней сумасбродкой, уехав на стройку по комсомольской путевке, я вдруг в письме к отцу попросила, чтобы он написал для меня свою биографию. Не знаю, зачем и почему я это сделала. Отец написал. Вот она:
Я родился в 1891 году в семье крестьянина и до десяти лет жил с родителями. На десятом году жизни моей я потерял мать. Она умерла. Чем болела, не знаю. Отец после смерти матери опустил руки, небольшое хозяйство нарушилось, и мне пришлось пойти в «люди», то есть работать по найму.
Был мальчиком у купца, сторожил сады у помещиков, а в 1906 году, уже пятнадцатилетним парнем, работал у лесопромышленника рабочим. Там повстречался мне студент Московского университета Юдин. Он заметил, что я все свободное время читаю книжки, которые мне давали дети приказчика, заинтересовался мной и предложил подготовить меня в низшую сельскохозяйственную школу. Я согласился. И вот в 1909 году с его помощью я поступил в эту школу.
Было трудно. По воскресеньям приходилось работать у богатых, чтобы платить за право учения и одеваться. (Помещение и питание предоставляла школа, за что мы обрабатывали ее довольно большое хозяйство.) В 1912 году я школу окончил лучшим учеником, но устроиться по специальности не мог и опять пошел к тому же лесопромышленнику. Только в 1913 году мне удалось поступить в Тульскую губернскую землеустроительную комиссию помощником агронома. Но проработал там недолго.
В октябре месяце 1913 года я был призван и взят на царскую службу. Служил в Киеве, где в начале четырнадцатого года перенес брюшной тиф, чуть не умер.
В 1914 началась война с немцами, и я очутился на фронте. Воевал до начала 17-го, был ранен, контужен, отравлен газами. Но все это перенес.
Перечитываю, пытаюсь вспомнить рассказы отца, но вспоминается другое.
Веселый скрип снега. Длинная, синяя по белому полю лыжня. Лес зубчиками за полем. Отец в полушубке на широких лыжах. И я — не иду, лечу за ним: в первый раз меня взяли за елкой. А елка… Густая, упругая, ровно сходящаяся кверху, она только у макушки высовывала вбок над остальными одну пушистую лапку, словно из хвои торчало заячье ухо. Другой такой не было здесь, в Бурцевском лесу, а может — и на всем белом свете. Она выходила великовата в избу хозяйки Степаниды, но отец все же срубил ее для меня.
Потом мы возвращались домой. Елка ехала за отцом, оставляя широкий, взрыхленный след. Вечерело. Как и полагается новогоднему, крупными хлопьями падал снег. И лучшего ничего не было еще в моей коротенькой жизни.
Вдруг на взгорке отец нелепо взмахнул руками и упал. Я засмеялась. Подождала. Крикнула ему:
— Пап, ну, хватит. Вставай!
Он не встал. Большой и черный на вечернем снегу, он лежал ничком, неподвижно, и ниже его оторвавшейся тенью лежала моя елка.
Я обогнула елку и потрясла его за плечо. Он повернул голову. У него были мутные, бессмысленные глаза. Он посмотрел ими на меня и снова уронил голову в снег. Я заревела. Наверное, сиплый мой рев пробился сквозь обморочность и беспамятство, потому что отец стал подниматься, трудно и медленно подниматься на трясущихся ногах.
Потом было ужасно. Он шел и падал. Вставал и снова падал. Мучительно хрипел и поднимался, а через несколько шагов падал опять. Тяжело ворочался в полушубке, полном снега, и поднимался, шел и падал, и не было этому конца. Он поднимался, шел и все волок, все волок за собою елку.
Уже впотьмах, на дороге, ведущей к деревне, нас подобрал незнакомый мужик, ехавший за сеном. В санях отец бредил, метался, порывался идти. У него оказался грипп и температура за сорок. В ту же ночь колхозной машиной его свезли в больницу, а елка так и провалялась у крыльца все новогодние праздники…
Не знаю, почему приходит на память именно это. Может быть, от слов: «…все перенес».
Он почти все мог перенести, мой отец. И даже тогда, худенький, двадцатидвухлетний, с первыми усами над припухлым по-детски ртом, в сапогах и царской военной форме, каким вижу его на старом, уже можно сказать, старинном фотопортрете.
А про ту войну он мало рассказывал. Смутно помню о каком-то аэроплане, тарахтевшем не то мотором, не то всеми хлипкими частями, на котором отец с другом где-то в Румынии летали в разведку. Знаю, что был он георгиевским кавалером. Вот и все.
В 1916-ом — начале 17-го года мне пришлось познакомиться с газетой «Окопная правда» и поговорить с живым большевиком. Он-то меня и поставил на большевистские ноги. До этого я совершенно не разбирался в политике.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: