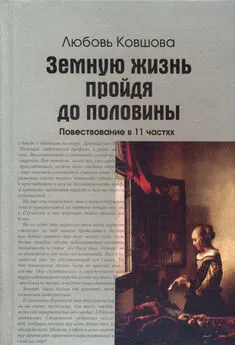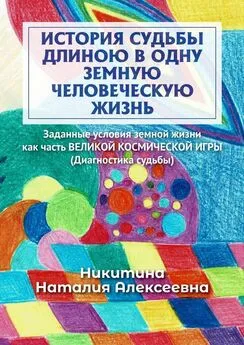Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины
- Название:Земную жизнь пройдя до половины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины краткое содержание
Любовь Ковшова определила жанр своей книги как «повествование в 11 частях». Звучит скучновато, но, похоже, более точное определение подобрать трудно. Слишком явно выбивается эта книга из привычного ряда литературных колодок-выкроек. Мемуарно-автобиографическая канва, вроде бы обязанная взять на себя роль заместительницы сюжета, постоянно рвётся. Повествовательные пласты, подобно «возмущенным», пришедшим в движение пластам земной коры, смещаются. Повествователь — обладатель, по определению, ровно-раздумчивой, отстраненно-умудренной интонации — посылает к чёрту все ролевые ограничения и — просто живёт, представляете? Живёт жадно, молодо, бесстрашно, озарённо. Ошибаясь, собирая все острые углы, запинаясь, падая, не сдаваясь. Размышляя, сомневаясь, продираясь сквозь терновые заросли «бесспорных житейских истин».
Земную жизнь пройдя до половины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В этом же году нас, шесть человек, якобы для обучения солдат направили в запасной сибирский полк. Но мы полагали, что нас удаляют с фронта по подозрению в большевистской агитации, а этим мы уже занимались.
И в августе семнадцатого мы очутились в городе Можайске, где вместо обучения занялись разложением солдат, как тогда говорилось, в результате чего ни одна маршевая рота не ушла на фронт.
Из Можайска наш полк перебросили в город Жиздру. Здесь мы и встретили Великий Октябрь. Наш полк принимал самое энергичное участие в организации советской власти. Тогда же я был избран солдатами командиром 4-ой роты.
В это время в Калуге казаками и юнкерами был арестован и расстрелян первый Калужский губернский совет. Я со своей ротой вызвался поехать в Калугу. Там, совместно с красногвардейцами Москвы и Тулы, мы восстановили власть советов, и нас зачислили в Красную Гвардию.
Батареи центрального отопления у нас в бараке накалялись зимой до яростного жара. С тоненьким шипением, со свистом несся по ним стоградусный пар. А я, как обычно, сидела на подоконнике с ногами, читала отцовское письмо и, когда дошла до этого места, от неожиданности дернулась и свалилась с узкой подоконной доски прямо на батарею. Дуя изо всех сил на обожженную докрасна руку, я снова отыскала в письме: «…был избран командиром 4-ой роты… зачислили в Красную Гвардию».
Нужно, наверное, объяснить, почему такой, казалось бы, не очень выдающийся факт отцовской биографии вышиб меня из равновесия. Дело в том, что с детства, класса примерно с пятого я бредила гражданской войной. Морозными вечерами на печке при жидком свете лампочки с кухни проглатывала какой-нибудь очередной «Боевой 19-ый» и, уткнувшись носом и губами в теплый, еще пахнущий овцами и купоросом валенок, злобно плакала, что опоздала родиться. Недостижимой мечтой, идеалом представал красный командир — краскм. Завидовала ему смертно, воображала себе этакого «степного орла» без страха и упрека с шашкой наголо, почти как потом в песне 60-х годов:
Красный командир на гражданской войне,
Красный командир на горячем коне.
В бой идет отряд — командир впереди,
Алый бант горит на груди.
Героически-возвышенный получался образ.
Приставала с расспросами к отцу, он рассказывал о гражданской войне, но ничего ни возвышенного, ни героического в тех рассказах не было. А был краснорожий, косая сажень в плечах, белый офицер. «Здоров мужик! — отец восхищенно крутил головой. — Один раз приложил рукояткой нагана и обе челюсти мне вынес. Так что зубами я больше никогда не страдал». Отец раскатисто смеялся.
— А ты? — я дергала его за рукав.
— А что — я? — не понимал отец.
— Ну, ты ему что? — добивалась я. Мне нестерпимо важно было знать, что мой отец не струсил перед этим, так непохожим на книжных и киношных беляков, офицером.
— А что я мог голыми-то руками против такого бугая? И против взвода солдат? Сунули меня в сарай, там отплевался.
— Ну, ты хоть ничего ему не выдал? — У меня от страха дрожало под ложечкой.
— Да он меня ни о чем и не спрашивал. «У, сволочь!» — и наганом в зубы.
— А дальше?
— Дальше — как положено: расстреляли.
— Кого расстреляли?
— Меня, конечно. — Отец замечал мой раскрытый рот и пояснял: — У нас, у русских, в большинстве все делается абы как, вот и недострелили. А может, рукояткой-то оно нам сподручней, чем стрелять… — И он снова смеялся, сгоняя к уголкам глаз хитроватые морщины.
Нет, это была не та гражданская война! На той наган вырывали из чужих рук, стреляли перетрусивших белых, выскакивали в окно и на взмыленной лошади уносились к своим. Или уж, в крайнем случае, гордо умирали с «Интернационалом» на запекшихся губах, как мой красный командир.
Тогда, в пятом-шестом-седьмом классе, мир для меня был предельно прост: он делился ровно посредине на белое и черное, добро и зло, смелых и трусливых, своих и чужих. Отец же никак не хотел помещаться в столь стройную схему. Он сбивал меня с толку, все время путал.
Одно из первых отчетливых воспоминаний детства: в конторе отец о чем-то громко спорит с замполитом Краскиным. Они стоят лицом к лицу, возбужденно машут руками. И вдруг отец хватает Краскина за грудки, рывком вздергивает его, ражего, пузатого, вверх, почти над собой, и бросает на пол, так что в окнах звякают стекла. Потом брезгливо отряхает руку об руку, словно притронулся к грязному, и говорит зло, но уже вполне спокойно:
— Пиши, гад. Я писать не буду. Я тебя без НКВД придавлю, если еще хоть один трактор за барана пообещаешь.
Дело происходит в Днепровской МТС, где отец главным агрономом. Мне года четыре, отцу под шестьдесят. Он меньше Краскина чуть не на голову и старше лет на двадцать. Но он никого не боится, и я вместе с ним тоже никого не боюсь. Так и остается с тех пор.
И вот эта оставшаяся перед глазами картина, и чувство защищенности, и уверенность в бесстрашии отца никак не складывались с его рассказами о гражданской войне.
Вообще они раздражали меня каждым словом. Чего стоило хотя бы «у нас, у русских»?! Что это за русские такие, в которых мой отец мог быть объединен или даже уравнен с белым офицером? Ну, уж… Есть белые, красные, а просто русских нет и никогда не будет.
Отец посмеивался моим обличительным речам, гладил по голове шершавой ладонью, говорил добродушно:
— Ничего, Огонек. Подрастешь, поймешь.
Я вывертывалась из-под его руки и, надувшись, уходила. Справедливости не было на свете. По справедливости гражданская война должна была достаться мне, а не отцу. Я бы знала, что мне делать. Я бы не пропустила самого интересного в ней.
И за что только могли наградить тогда отца именным шестизарядным револьвером? Непонятно. Не за то же, что его белые расстреливали?! Первой полосой отчуждения легло между нами мое недоумение и обида.
А скоро я и вовсе перестала расспрашивать его о гражданской войне. Сыпной тиф, когда отца признали в живых уже по дороге в мертвецкую, северное сияние в Самаре девятнадцатого года, какой-то необыкновенный кулеш на ночевке — все было не то, оно лишь принижало великую романтику той далекой войны. Я перестала расспрашивать, свыклась с мыслью, что отец мой был там случайным человеком.
И вот оказалось, что именно отец с его негероическими рассказами и был тем самым, легендарным для меня красным командиром. Было от чего слететь с подоконника.
В марте 1918 года нас, старших возрастов, демобилизовали, и я уехал на родину в город Дмитровск Орловской губернии. Здесь я работал участковым агрономом, организовывал первые коммуны.
В августе 1919 на наш уезд начали наступать белые армии Деникина. Я вступил добровольцем в коммунистический отряд, но в боях участвовать почти не пришлось — был ранен, потом заболел тифом и был эвакуирован в город Самару. Пролежал в госпитале шесть месяцев, был на грани смерти — перенес сыпной и возвратный тиф.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: