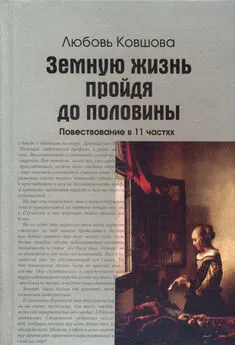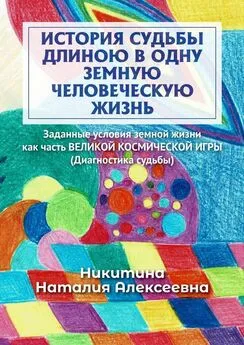Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины
- Название:Земную жизнь пройдя до половины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины краткое содержание
Любовь Ковшова определила жанр своей книги как «повествование в 11 частях». Звучит скучновато, но, похоже, более точное определение подобрать трудно. Слишком явно выбивается эта книга из привычного ряда литературных колодок-выкроек. Мемуарно-автобиографическая канва, вроде бы обязанная взять на себя роль заместительницы сюжета, постоянно рвётся. Повествовательные пласты, подобно «возмущенным», пришедшим в движение пластам земной коры, смещаются. Повествователь — обладатель, по определению, ровно-раздумчивой, отстраненно-умудренной интонации — посылает к чёрту все ролевые ограничения и — просто живёт, представляете? Живёт жадно, молодо, бесстрашно, озарённо. Ошибаясь, собирая все острые углы, запинаясь, падая, не сдаваясь. Размышляя, сомневаясь, продираясь сквозь терновые заросли «бесспорных житейских истин».
Земную жизнь пройдя до половины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Ответчица отвечала, что то правда, что его проклинала, ибо ей слово не сдержал, но болезни его причиной не была».
Среди заповедей божьих
Нету главной — «Не предай!» —
два с половиной века спустя напишет шестнадцатилетняя школьница. И в словах Хелены Козицкой главным то же самое — «слово ей не сдержал».
Что бывает подлей предательства?! И что больнее?! И какой силы переживания оно может вызвать? Не измеришь. Но, наверно, достаточной, чтоб лежал «той же истицы муж на смертном ложе». И, пожалуй что, это справедливо!
Однако я убрела куда-то в сторону. А чеховский рассказ тем временем движется дальше. Вот уже метель сбила с дороги почту и завернула к дьячковой сторожке. Вот, облепленные снегом, вконец измерзшие, вваливаются в сторожку случайные гости: молодой почтальон и его ямщик. И женщина — тихая, как река подо льдом, — вздрагивает и оживает. «Встрепенувшись и краснея», она вся отзывается на первые же слова почтальона, становится говорливой, открытой; готова броситься навстречу… и сама не знает чему.
На этом месте я всякий раз откладываю книжку. Как точно и как больно угадал Чехов! Это не про дьячиху и заезжего почтальона, а про меня. Это я всю жизнь без оглядки кидаюсь к людям. В поисках новизны?.. понимания?.. единственности?.. Даже себе не могу ответить. Разочаровываюсь, ударяюсь лбом в стенку или получаю по морде, реву и зарекаюсь, и… повторяю все сначала. Но при чем здесь Чехов, дьячиха, метель за окном?
Оказывается, при чем. Великая магия литературы в том и состоит, что в чьих-то чужих переживаниях ты узнаешь свои, невольно отождествляешь себя с героем, а там уж автор делает с тобой, что хочет.
И я дальше не могу читать спокойно, восхищаясь чеховским отточенным стилем, языком, сюжетом, ничего я больше не вижу. Уже не дьячихе, а мне не дает постылый Савелий наглядеться на человека, который бы мог быть моей судьбой и счастьем. И я — представить только, я?! — вместо того, чтобы укоротить шипящего в злобе мужичонку, принимаюсь петлять, выдумываю мелкие бабьи уловки. Но хитрость не помогает, и Савелий выпроваживает почту, лицемерно ссылаясь на казенную надобность.
И в запасе остается всего несколько минут, пока Савелий с ямщиком грузят почтовые тюки, и одна-разъединственная возможность удержать утекающую между рук надежду. Я заглядываю в глаза, нежные синие глаза над крутыми скулами (этого нет у Чехова, но мне все равно, я вижу, что вижу), и начинаю упрашивать:
«Остались бы… чаю попили бы». «Остались бы… Ишь, как воет погода!»
На все лады я повторяю первые попавшиеся слова, в которых не важен смысл. Минуя рассудок, как музыка или невнятный и оттого загадочный текст заговора, они всегда понимаются, как надо. И лишь одно неизвестно: отзовется ли на них человек, откликнется ли тебе?!
«А вы останьтесь!» — шепчу я и жду, чувствуя, как прямо в горле колотится сердце.
Ответ не задерживается, но он напрочь выбивает меня из рассказа. Этот придурок, к которому я тянусь всем своим существом, не находит ничего лучшего, чем сказать с восторгом: «Какая у тебя… шея… Фу, какая шея!» И сразу вспоминается «Ночь перед рождеством», разбитная Солоха с ее сомнительными кавалерами, то, что сразу разъединяет меня и дьячиху. Гляжу со стороны, как почтальон воровским движением хватает женщину за талию, как тянется потушить лампу… Мне почти неловко за то, что происходит, и уж точно — от навязанных мне, так я считаю, переживаний.
Но вот ведь какая заразная вещь литература! Стоит ямщику и Савелию прервать сцену объятий и оставить дьячиху одну, как все для меня начинается заново.
Замираю, пока не погиб в метели плач почтовых колокольчиков, и мечусь по сторожке, когда обрывается эта последняя звенящая ниточка.
Чехов не говорит, о чем думает женщина, оставшаяся в сторожке. Но о чем думаю я, метаясь вместе с ней из угла в угол, мне известно.
— За что? — бьется и дрожит поверх злобы, омерзения, ненависти. — За что?
А так. Ни за что.
Лепит и лепит в окно снег, воет, погребает заживо. И все верно, потому что нет жизни вне любви. И долгие слезы по себе, дьячихины ли, мои, какая разница?!
По-моему, рассказ здесь кончается. Все уже произошло. И даже то, что чудо не принесло счастья, — не суть. Главное, оно было, и было столько переливов чувств, вызванных им.
Но Чехов возвращается к Савелию и одним абзацем делает из вздорного дьячка трагического героя.
«Сегодняшним вечером он окончательно убедился в своих предположениях относительно жены. Что жена его при помощи нечистой силы распоряжалась ветрами и почтовыми тройками, в этом уж он более не сомневался. Но к сугубому горю его, эта таинственность, эта сверхъестественная, дикая сила придавали лежавшей около него женщине особую непонятную прелесть, какой он и не замечал ранее».
А дальше идет фраза, которую я не могу ни принять, ни простить:
«Оттого, что он по глупости, сам того не замечая, опоэтизировал ее, она стала как будто белее, глаже, неприступнее…»
Надо быть Чеховым, насмешником, материалистом, совсем не понимающим женщин, чтоб, написав рассказ о женщине, чуде и поэзии, перечеркнуть его одной размашистой фразой. Ему, видите ли, нужна правда жизни, голая, как обструганная палка, и никаких иллюзий.
Только, думаю, он не прав. Человеку необходимо и то и другое. Великие иллюзии: любовь, верность, вера, идея — движут горы, создают судьбы и становятся правдой. А сама по себе голая правда — та же ложь. Вот мы последние десять лет живем без иллюзий. И что? Как обобранные. Тянем полужизнь, где никто никому не нужен, даже сами себе…
И пусть нет у меня веских оснований спорить с Чеховым и утверждать, что могла дьячиха с нежной кожей и косой до полу «божью погоду мутить», я уверена, что могла. Почему уверена? Да не все ли равно — почему? Возможно, мне, взрослой, позарез надо, чтоб существовали иллюзии и действовал «закон справедливости», выдуманный на подоконнике второго этажа утром в снегопад.
IV
А снегопад там, в Смоленске, все шел, висели, как на нитках, роскошные пуховые хлопья, раскачивались под ветром.
Странно, я в подробностях помню тот снегопад, как он тоненько шуршал, его запах нового ситца, оттенки от розового до голубого, и совсем ничего о дороге с кладбища до общежития — будто выпало. И был снова второй этаж, сумеречная комната и девчонка в ней.
Теперь она, правда, сидела не на подоконнике, а в постели, и, укутавшись с головой байковым одеялом, так что из него торчали одни глаза, крупно дрожала, не могла согреться. Впрочем, озноб был скорее нервным, чем простудным. С ним словно бы выходило наружу то невыносимое душевное напряжение, которое давило с утра. А вместо, — не понять, хуже оно или лучше, — наступала апатия, когда все притупляется внутри и замирает, не хочется ни говорить, ни двигаться, ни думать. Опустошение души.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: