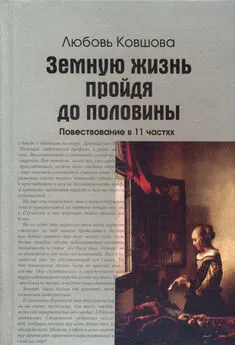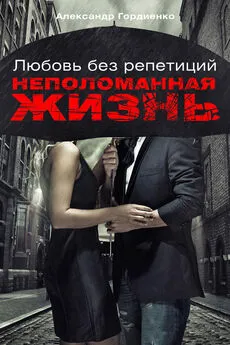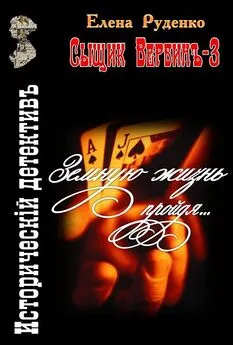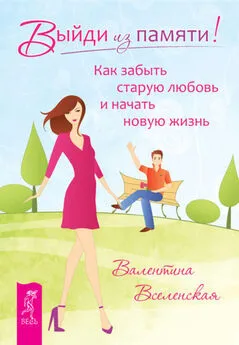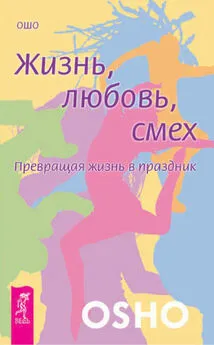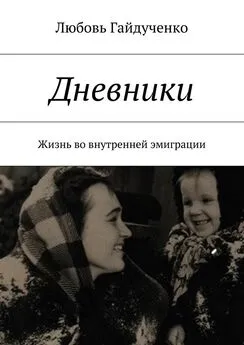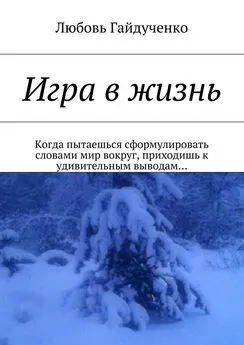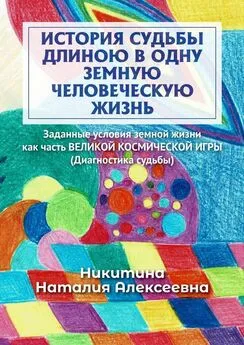Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины
- Название:Земную жизнь пройдя до половины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины краткое содержание
Любовь Ковшова определила жанр своей книги как «повествование в 11 частях». Звучит скучновато, но, похоже, более точное определение подобрать трудно. Слишком явно выбивается эта книга из привычного ряда литературных колодок-выкроек. Мемуарно-автобиографическая канва, вроде бы обязанная взять на себя роль заместительницы сюжета, постоянно рвётся. Повествовательные пласты, подобно «возмущенным», пришедшим в движение пластам земной коры, смещаются. Повествователь — обладатель, по определению, ровно-раздумчивой, отстраненно-умудренной интонации — посылает к чёрту все ролевые ограничения и — просто живёт, представляете? Живёт жадно, молодо, бесстрашно, озарённо. Ошибаясь, собирая все острые углы, запинаясь, падая, не сдаваясь. Размышляя, сомневаясь, продираясь сквозь терновые заросли «бесспорных житейских истин».
Земную жизнь пройдя до половины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Похоже, анекдот дипломату не понравился, поскольку на словах про танк он попытался переехать неизвестно откуда вынырнувшего на дорогу милиционера, отчаянно махавшего жезлом. Однако обошлось. Тупорылый гибрид завизжал всеми тормозами, завилял и скатился в кювет. Подбежал взмыленный, орущий непотребное милиционер, глянул на номер и без перехода сделался униженно-вежливым, залепетал что-то про превышение скорости и опасности такой езды.
От вида раболепствующего милиционера мне стало тошно. И пока машину вытаскивали из кювета, я старалась на него не смотреть. Остаться и высказать все, что о нем думаю, я не могла, потому как знала, что бой с поляком не окончен.
И точно. Стоило машине тронуться, как он повернулся ко мне и надменно спросил:
— Так кто кому сапоги лижет? Ваши власти перед нами скачут, а на вас ездят, — и неприятно захихикал своей шутке.
Все жарче билась жилка у меня на виске, а состояние было почти по Высоцкому: «как в окопе под Курской дугой».
— Знаете, пан, — медленно сказала я, — когда у нас муж с женой дерутся, то третий наводить порядок лучше не подходи, может и ноги не унести. Мы уж как-нибудь сами со своей властью разберемся! Вам что за дело?! Кто вас просит соваться?
— Какой горячий русский девочка! — намеренно коверкая слова, сказал поляк.
Но меня несло уже неостановимо:
— Вы бы, пан, поосторожней словами бросались. Наш дикий народ как-никак, а шестую часть суши занимает. А где ваша цивилизованная Речь Посполитая? Мы за тридцать лет от сохи до атомной бомбы дошли. Наверное, тоже от дикости. Я в одной школе с Гагариным училась, из захолустной деревни парень, а в космосе — первый. У меня отец в пятьдесят один год пошел в ополчение Москву защищать, потому что русский и коммунист. А три года назад мой друг сорок километров по казахскому бурану прошел, чтоб в райкоме на партучет встать. Да что вы о нас знаете? И чем кичитесь — шляхетским гонором, что ли?! Хоть бы литературу нашу почитали. Блоковских «Скифов», например…
Въехали в Москву. Дождя здесь не было, но поляк забыл выключить дворники, и они продолжали мотаться по сухому стеклу, дробя картину Кутузовского проспекта.
— Я не думал, что у вас еще такие… такие… — он подыскивал слово, — патриоты остались.
— А это потому, что вы у нас только со всякой сволочью якшаетесь. Остановите, — велела я, завидев вход в метро.
Он послушно остановил машину, я вышла, бросив ему на сиденье мятый трояк. Он что-то крикнул вслед, за городским шумом я не расслышала что и не обернулась.
В метро, прислонясь к черному стеклу с надписью «Не прислоняться!», я соображала, к кому поехать поделиться произошедшей историей. Но выходило — не к кому. Муж круглосуточно сторожил на «Мосгорснабсбыте» за себя и за меня, Лиса с Толиком и дочкой были на даче, Витька в санатории, Игорь мотался по делам стройотряда, Светка с Галкой готовились к экзаменам у родителей — обе были из Подмосковья.
Нерассказанная сразу, потом история притухла и подзабылась. Не до нее было. Последние институтские годы мелькали, как в тумане. Болезни малыша, учеба, экзамены, диплом, защита, распределение. Вот и два года еще канули в вечность.
VIII
Летом сухого, полыхающего пожарами 72-го мы ехали в тот самый закрытый городок, куда отправилась когда-то Маринкина соседка.
Поезд не столько шел, сколько стоял. Горели торфяники и леса вдоль всей России. Иногда огонь подходил совсем близко к железной дороге, а длинные языки пламени перекидывались через полотно, образуя огненную арку. И тогда ехать было нельзя. Поезд останавливали, и пока тушили опасное место, проходило два, три, а то и четыре часа. Потом поезд трогался, и до следующей стоянки за окнами то там, то здесь взметывались к темному небу огни пожарищ, и думалось: «Как война!»
Вообще в ту дорогу много думалось. Новые люди, новая жизнь. Какая-то она будет? Все начиналось сначала, а старое, привычное как будто сгорало в страшных и однако невообразимо красивых пожарах на летящей мимо земле. Сгорало навсегда.
Но так думать не хотелось, да и несправедливо было. Оставалась память, оставались друзья. Конечно, нас теперь разделяло расстояние: Галка еще на дипломе уехала по распределению, Игорь, Витька, Светка остались в Москве, а Толик по обмену специалистами и вовсе отбыл в Австрию вместе с семьей. Конечно, приехать к нам они не смогут, потому что городок, где мы будем работать, закрытый, и без спецпропуска в него не попасть. Но я-то ведь могу бывать в Москве! И Толик с Лисой туда вернутся. Ясное дело, видеться мы будем редко. Но что это, в сущности, меняет?!
Потом мысли перетекли на предстоящее. Еще не виденный город ученых воображался по книгам и фильмам про физиков со множеством по-разному интересных и умных людей, среди которых не могут не найтись друзья. Тут мысли начинали путаться, плыть, сон легко смывал их остатки вместе с впечатлениями и переживаниями последних длинных суток в пути. И только огненные всполохи все мелькали и мелькали перед закрытыми глазами.
Громадный оборонный научно-исследовательский институт и городок при нем были совсем не такими, как представлялось. Единственно похожи были заповедные сосновые леса, в которых утопал и сам город и разбросанные вокруг него здания института. Но люди… Они не имели ничего общего с теми замечательными физиками, героями моих школьных лет, одним из которых я тогда хотела стать.
Да и встретили нас так, будто мы здесь никому не нужны. Долго мытарили с работой, чтоб куда-то приткнуть. Вместо обещанной квартиры дали по койке в общежитии. Естественно, в разных комнатах, почему некуда было привезти малыша, и он обитал у бабушки в деревне, где ему по здоровью оставаться до зимы было никак нельзя.
Чувство ненужности, обиды, разочарования. Високосный год!
Мы взбунтовались и потребовали перераспределения. Тем более, что Витька писал из Москвы о возможности устроить нас в Протвино или на «Мезон», только открывающийся в Подмосковье не то НИИ, не то завод, а может, то и другое вместе.
Витькины письма… Ах, эти Витькины письма! Они спасали нас от отчаянья.
«Очень прошу вас, ребята, держитесь, не расстраивайтесь и не вешайте носа. Если вас не сломали 6 лет в МИФИ, то я не верю, что это произойдет в полгода в вашем богоспасаемом городишке».
Возможно, благодаря этим письмам, сломались не мы, а местное начальство. Мы выстояли, получили жилье, привезли малыша и мою маму, жизнь стала улаживаться.
Но — боже мой! — как мало мне было одних писем, как не хватало встреч, разговоров, того же кафе «Дружба».
А со встречами была беда. В командировки меня не посылали, попадала я в Москву только по отпускам, то есть летом, когда никого из друзей там найти было нельзя. Без толку я обрывала гостиничный телефон. Кто-то, как и я, был в отпуске, кто-то в командировке, кого-то не могли найти на месте. Мы с малышом ходили в зоопарк, в Кремль, в Третьяковку и уезжали в Крым, так никого и не повидав.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: