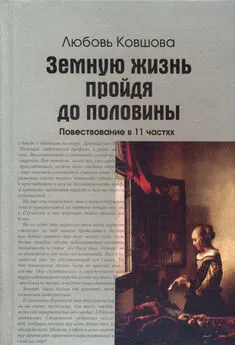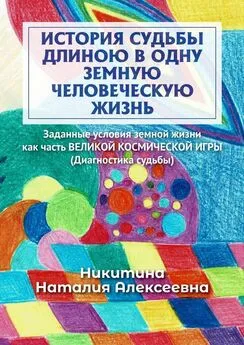Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины
- Название:Земную жизнь пройдя до половины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины краткое содержание
Любовь Ковшова определила жанр своей книги как «повествование в 11 частях». Звучит скучновато, но, похоже, более точное определение подобрать трудно. Слишком явно выбивается эта книга из привычного ряда литературных колодок-выкроек. Мемуарно-автобиографическая канва, вроде бы обязанная взять на себя роль заместительницы сюжета, постоянно рвётся. Повествовательные пласты, подобно «возмущенным», пришедшим в движение пластам земной коры, смещаются. Повествователь — обладатель, по определению, ровно-раздумчивой, отстраненно-умудренной интонации — посылает к чёрту все ролевые ограничения и — просто живёт, представляете? Живёт жадно, молодо, бесстрашно, озарённо. Ошибаясь, собирая все острые углы, запинаясь, падая, не сдаваясь. Размышляя, сомневаясь, продираясь сквозь терновые заросли «бесспорных житейских истин».
Земную жизнь пройдя до половины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А вот рядом с ним, слева, подперев голову рукой и поглядывая на собравшихся живыми, блестящими, не то черными, не то коричневыми до черноты глазами, сидел человек, на ком невольно останавливалось внимание. Он, пожалуй, был не моложе критика, но что-то лихое, цыганское проглядывало в нем. Воронова крыла волосы уже пометила седина, однако это еще было серебро по черни, а не чернь по серебру. И это, и узкое худое лицо, и особенно молодые глаза делали его как бы вне возраста, и сказать о нем «пожилой» было нельзя. Вдобавок какая-то неуловимая черта роднила его с нашей Наполеоновной, как только она могла роднить между собой бывших фронтовиков. А значит, из приехавших только он мог быть поэтом Николаем Старшиновым.
Тогда третьим получался областной поэт. Самый младший из троих, чуть за сорок, он выглядел наиболее солидно и даже увесисто. Возвышаясь над сидящими, он держал речь, и солнце играло на его гладкой, в полголовы лысине. Я вслушалась.
Областной поэт как раз покончил с Будимиром («Вот что я могу сказать о его стихах») и перешел к Ваське. Будимир сидел насупленный, крутил в пальцах шариковую ручку, топорщил кустистые брови. Видно, ничего хорошего сказано не было. И я обиделась за него.
С Будимиром мы живем в одном подъезде, только он на третьем, а я на девятом этаже. По выходным я захожу к нему за какой-нибудь ерундой вроде шланга для пылесоса и застреваю на полдня. Будимир мастерит что-то по дому и одновременно рассказывает мне, например, о русских поэтах допушкинского времени, которых я почти совсем не знаю, читает их стихи наизусть.
Мелькают имена Антиоха Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова, Державина, Радищева. Из рассказов вдруг выплывает, что городок Дмитровск на Орловщине, откуда род моего отца и где он сам родился и вырос, основан отцом Антиоха Кантемира господарем молдавским Димитрием, а запрещенное радищевское «Пу-тешествие из Петербурга в Москву» тайно переписывали в монастыре, на территории которого теперь наш закрытый город. От этого сдвигается время и расстояние, все здесь и сейчас.
Стихи же звучат непривычно-тяжело по размеру, словно не в ногу топает стадо слонов, а когда размер выправляется, все равно задавливают устаревшие формы и слова. И однако сквозь двухвековую патину пробиваются удивительной яркости строчки.
«Нежели купцу пива пить не в три пуда хмелю», — читает Будимир Антиоха Кантемира, и я отчетливо вижу ражего, толстопузого, красномордого купца, всклень налитого пивом.
«Россия мати, свет мой безмерный», — нелепый Тредиаковский, но от его слов щемит сердце.
Прости, моя любезная, мой свет, прости,
Мне сказано назавтрее в поход ийти… —
здесь почему-то вспоминаются певуньи моей родной деревни. Это сумароковское прямо из их песен, разве что «назавтрее» заменили бы привычным «назавтрева». Так у нас говорят.
И уже совсем современен Радищев:
Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу…
Последнее вовсе обо мне, как будто подслушано, в какую высь заносит меня в сладких мечтах.
Под будимировское чтение я, кажется, начинаю понимать, что такое поэзия. Это интересно так, что невозможно оторваться. Со шлангом в руках я то сижу возле Будимира, то брожу за ним по квартире, пока за мной не приходит муж.
«И что этот лысый мог наговорить Будимиру?» — подумала я, посмотрев на областного поэта с неприязнью.
А тот уже громил Ваську. Может, и было где-то в Васиных стихах «лобовое решение темы» и «столпотворение согласных», но тон был недопустим. Высокомерный и презрительный, он унижал человека. И порывистый наш Васька не выдержал. Горячий румянец кинулся ему в лицо, он вскочил и не выговорил, а скорее выкрикнул:
— Вы критикуете за сочетание «мне — не», а в вашей книге, она у меня в номере, сплошь и рядом то же. Сейчас принесу.
Конечно, это было высказывание типа: «Сам дурак», но областной поэт на минуту смешался, что было приятно, и на душе как-то полегчало. Ваську, правда, за книжкой не пустили, удержали сидящие рядом с ним Будимир и Гелий, и обсуждение пошло дальше, но уже с бльшим накалом.
Тут я случайно глянула на остальных писателей и удивилась легкой и озорной улыбке Старшинова. Чему бы? Критик же не реагировал, сидел все так же осовело-равнодушно, по-моему, спал с открытыми глазами.
Но мимолетное это впечатление сразу же затерялось в страстной обличительной речи областного поэта. Досталось всем: Гелию за рационализм, Ане за романтику и женственность, Пародисту за легковесность. А наших молодых — Сашу, Юру и Сергея — он топтал вообще на уничтожение. Здесь вспоминался Твардовский с тем, что приписывали ему: «Топи котят пока слепые».
Во мне копилось и копилось возмущение, но сорвалась я даже не тогда, когда он разбирал мои стихи. А перепало мне с лихвой.
«Набор слов», «вторично», «словесная и смысловая каша», «надуманно», «неуклюже, убого», «стихи пустые, ложная многозначительность», «вычурно, псевдочувства» — такие оценки, облыжные, без аргументов, перемежались с возмущенными репликами, где меня ядовито обзывали автором. «А знает ли автор, что такое прелюдия?!» «Больно уж лихо все у автора!» «Ужас, какой произвол позволяет себе автор!»
Он вырывал из стихов цитаты с мясом и снабжал нелестными, а порой глупыми или глумливыми комментариями. Так строчка «В ладошках получив из снега воду» пояснялась как «технологическое описание». А к строчке «И тяжело стучит в окошко слава» ехидно добавлялось: «Разобьет окошко-то!» И не важно, что дальше говорилось: «А не стучит, ты не заплачь о ней. Черт с ней, со славой! В ней ли было дело?!»
Но особенно почему-то его взбеленило стихотворение «Скажи свое!» и породило целую тираду, что, мол, сказать свое можно, но прежде всего надо иметь это свое, и говорить свое уж никак не человеку, который не справляется со словом.
Я не высоко ставила свои стихи, но лысый упырь оскорблял не столько их, сколько меня. И все-таки я удержалась, не стала ни спорить, ни скандалить, ни лезть в бутылку. Было бы недостойно. Мне только мерещилась картинка, пришедшая ко мне однажды в ранней-ранней юности.
Было лето, и мне собиралось исполниться пятнадцать. Я проснулась утром, как просыпаются лишь в юности: с ощущением неминуемого счастья, что ожидает прямо сейчас, сегодня. Каким оно будет, я, понятно, не знала, но в то утро мне сладко грезилось о славе. Чем я прославлюсь, я бы сказать не могла, может, стану великим физиком, может, еще что, но что прославлюсь, сомнений не возникало. Огромная жизнь лежала впереди, а в ней всегда было место подвигу.
Слава почему-то представляется посмертной. Меня уже нет, и ни отца нет, ни мамы. А на нашей избе, там, где к стене прислоняется рябина, висит мемориальная доска: «Здесь жила…» Я даже вижу мраморный скол в ее правом нижнем углу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: