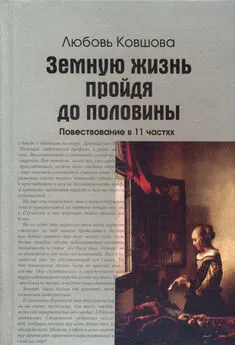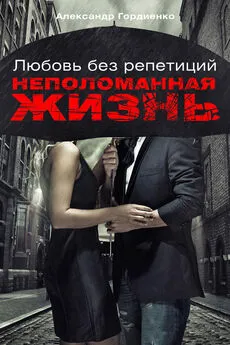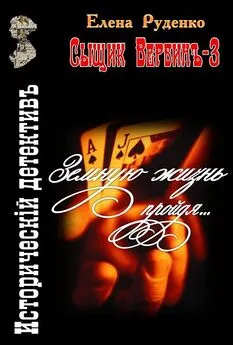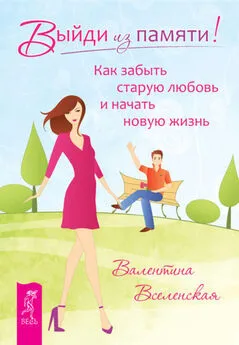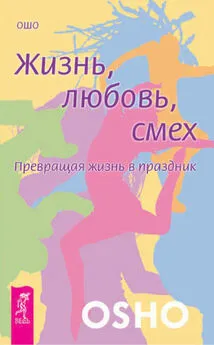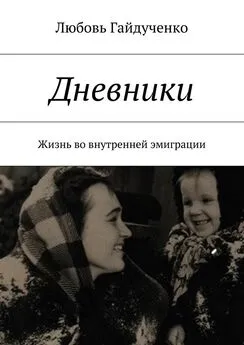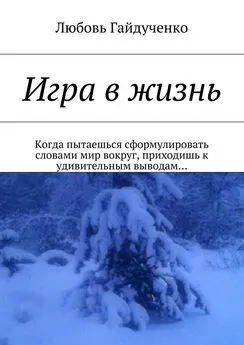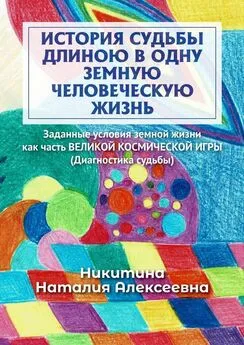Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины
- Название:Земную жизнь пройдя до половины
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Любовь Ковшова - Земную жизнь пройдя до половины краткое содержание
Любовь Ковшова определила жанр своей книги как «повествование в 11 частях». Звучит скучновато, но, похоже, более точное определение подобрать трудно. Слишком явно выбивается эта книга из привычного ряда литературных колодок-выкроек. Мемуарно-автобиографическая канва, вроде бы обязанная взять на себя роль заместительницы сюжета, постоянно рвётся. Повествовательные пласты, подобно «возмущенным», пришедшим в движение пластам земной коры, смещаются. Повествователь — обладатель, по определению, ровно-раздумчивой, отстраненно-умудренной интонации — посылает к чёрту все ролевые ограничения и — просто живёт, представляете? Живёт жадно, молодо, бесстрашно, озарённо. Ошибаясь, собирая все острые углы, запинаясь, падая, не сдаваясь. Размышляя, сомневаясь, продираясь сквозь терновые заросли «бесспорных житейских истин».
Земную жизнь пройдя до половины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нет, не зря отвергало сердце эту войну. Сердце всегда мудрее. Не однажды я покупалась на красивые, убедительные слова, и каждый раз это было ошибкой. Только сердце не подводило меня. А художнику, чтобы стать настоящим, тем более никого и никогда нельзя слушать, кроме своего сердца.
С заснеженного куста синица постучала в окно каминной. Я повернулась к ней, и никто не увидел, каким жаром полыхнули щеки. О, как это я о себе: «художник»! Да еще «настоящий»! И было стыдно, горячо, и все же с надеждой, потому что там, в «Дубках», еще в первый день семинара под страстную старшиновскую речь неостановимо потянуло к себе огромное дело: служение литературе, как служение своему народу. Оно-то и было тем самым, что теперь надлежало делать. И бегать искать ответ было незачем.
После лекции семинар продолжился, но еще не скоро народ отошел от впечатлений.
— Это правильно, — сказал Старшинов. — Когда трещина проходит по миру, то она проходит и через сердце поэта. — Не то подбодрил, не то похвалил, не то привел в рабочее состояние.
И семинар пошел ровно, по уже известному пути.
Только со мной что-то было не так.
Звучали стихи Сергея Маркова, своей невесомой, нематерьяльной, сказочной красотой возвращали в детство:
Знаю я — малиновою ранью
Лебеди плывут над Лебедянью,
А в Медыни золотится мед…
До слез пронимало маленькое стихотвореньице Владимира Соколова:
Извилист путь и долог.
Легко ли муравью
Сквозь тысячу иголок
Тащить одну свою?
А он, упрямец, тащит
Ее тропой рябой
И, видимо, таращит
Глаза перед собой.
И думает, уставший
Под ношею своей,
Как скажет самый старший,
Мудрейший муравей:
«Тащил, собой рискуя,
И вот, поди ж ты, смог.
Хорошую какую
Иголку приволок».
И почти речитатив великого стихотворения Исаковского, рвущего душу:
Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?
Вроде все было как вчера, почти как вчера, но только почти. Я не могла полностью опуститься в поэтическую стихию, доставлявшую раньше счастье до сердечного захлёба. Мешали мысли — от ерундовых, что я практически не читала советскую поэзию, до вполне бредовых, что выражение «Красота спасет мир» в корне не верно. Никого она никогда не спасала и не спасет впредь. Иначе как бы объяснялось, что мир, накопивший необъятное количество красоты в музыке, в слове, в живописи, в скульптуре, в архитектуре, в благородстве человеческом, продолжает подличать, разбойничать, убивать, вести войны?
Я смотрела на оживленное лицо поэта Старшинова, на его яркие блестящие глаза, а видела восемнадцатилетнего чернявенького сержанта-пулеметчика, кожа да кости, длиннополая шинель, разбитые башмаки. А еще тяжеленный пулемет, который противник пытается уничтожить в первую очередь, будь то в обороне или в наступлении. И мальчишка-пулеметчик, забывая про себя, строчит по врагу, спасая мир не красотой, а огнем. И в этом была настоящая правда жизни, а не красивой фразы. И про войну, не про стихи скажет он потом:
А нам судьбу России доверяли,
И кажется, что мы не подвели.
Так что же выходит — красота бесполезна? И зачем она тогда? Да и что она такое, в конце-то концов?
Эк же куда меня завели мысли об афганской войне!
Как-то в зимние каникулы мы поехали со старшим сыном в Ленинград. Первым делом был, конечно, Эрмитаж. В одном из ближних его залов выставлялась картина из Дрезденской галереи Яна Вермеера Дельфтского «Девушка с письмом». Я знала ее по репродукциям, но подлинник поразил. Он словно остановил меня и велел не уходить.
Я отпустила сына и села на банкетку напротив картины.
Что же в ней было, в самовластно распоряжающейся мной картине середины далекого XVII века? А ничего особенного! Средневековая комнатка, где минимум предметов: спальное место, покрытое ковром, полог, кресло, открытое окно с откинутой занавеской и девушка, читающая у окна письмо. Ну, еще блюдо с яблоками на ковре. Девушка как девушка. Нежный, задумчивый профиль, в руках листок письма. Внимательный и спокойный взгляд пробегает строчки. Так читают, когда все уже отболело. Но приглядевшись, можно было увидеть отраженное лицо девушки в открытой створке окна. Лицо в отражении слегка теряло четкость, однако даже так проглядывала в нем не безмятежность профиля, а привычно затаенная горесть о чем-то дорогом и несбывшемся.
На миг мне показалось, что я знаю содержание письма и неразличимый на картине почерк мне знаком. Случалось и мне получать такие письма, вот ведь как.
Но не одно это держало меня возле картины. Постепенно на ней начали проявляться бегущие кадры будто снятого про мою жизнь кино. Беды, радости, ошибки, обиды, неблаговидные поступки, бестолковость и суета — все было там. Однако это кино отличалось от моих воспоминаний. Был в нем невнятный мне, но объединяющий все смысл. Как будто показанная жизнь была не просто так, а зачем-то. Она складывалась в определенную цель, которую обязательно надо было мне постичь. Иначе бы это была не жизнь, а пустое существование.
Значит, была польза от красоты, только не выражаемая материально.
И голландец Вермеер и эта девушка на картине были на свете, возможно, для того, чтобы через триста лет потрясти чье-то сердце. А Николай Константинович Старшинов оставлял после себя людей, любящих поэзию, то есть лучше тех, какими они были до него. Может, в этом и есть задача искусства — приносить гармонию в наш спятивший на войнах и на зле мир?
А семинар кончался. Уже были рассмотрены все подборки. Было решено издать наш сборник под названием «Общая тетрадь», а третий секретарь обещал отыскать для него лучшего в Горьком редактора. Аню рекомендовали в Литинститут. В общем, полнейшая победа над областным поэтом.
Подошла к концу пятница. Свечерело. База отдыха наполнилась приезжими. Голоса по всем этажам, то тяжелый топот, то легкие шаги по лестницам, где-то над головой азартные детские крики. И словно отзывались на этот шурум-бурум недавно слышанные от Старшинова строчки Рубцова:
И какое может быть крушенье,
Если столько в поезде народа?!
После ужина все в той же столовке силами семинара был устроен поэтический вечер для отдыхающих. Откуда-то явились огромные, как северные жар-птицы, павло-посадские платки. Татьяна из отдела культуры и ее подружка Света укутались в них, и получилось то ли две русские красавицы, светленькая и темненькая, то ли две расписных матрешки. Впрочем, по ведению вечера они являлись то в том, то в другом виде.
И потек вечер. Стихи, и стихи, и стихи, вопросы, почему-то много о Высоцком, ответы, благодарственные слова Старшинову, отчего он смущался и наконец запротестовал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: