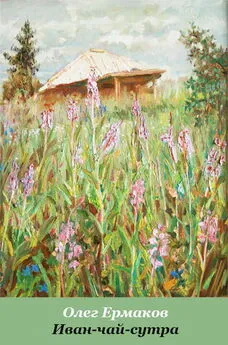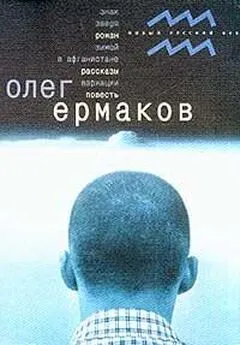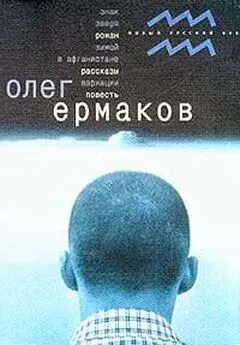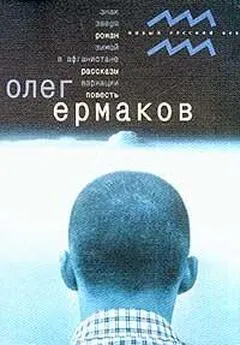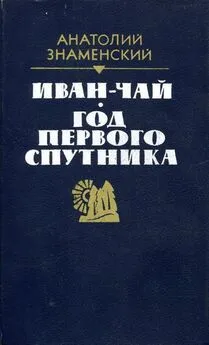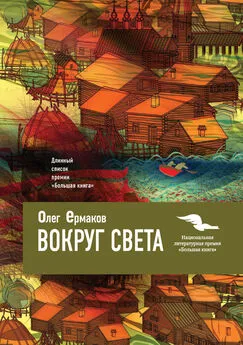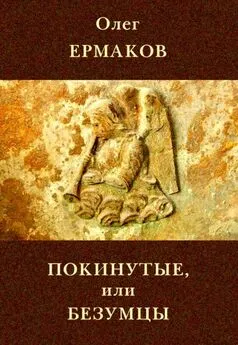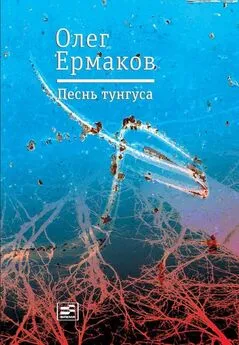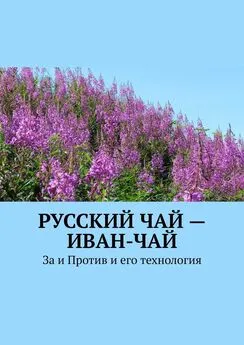Олег Ермаков - Иван-чай-сутра
- Название:Иван-чай-сутра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Ермаков - Иван-чай-сутра краткое содержание
Авторский вариант романа. Журнальная версия была опубликована в журнале «Нева».
Иван-чай-сутра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это было что-то диковинное. Но американцы, оказывается, давно уже этим занимались, Егор снова сыпал именами постмодернистов-картографов. Алекс его не совсем понимал. Внутреннее пространство? Чье оно? Самих картографов или Местности? Егор, отпустивший волосы в Питере и похожий на семинариста, дьячка или анархиста, вещал, размахивая руками, что следует погрузиться в прапамять Местности, проникнуться ее временем, стать ее частью, и тогда ее пространство просто совпадет с их пространством. Он раздражался: «Анцифер! Здесь нет никаких цифр. Ты вообще читаешь книги? Или только смотришь телевизор?» Сам он глотал в Питере Юнга, Элиаде, Хайдеггера да вот географов-постмодернистов и запросто рассуждал уже не о каких-то географических линиях, а о мировой линии, космопространстве Ницше, цитируя славословия последнего Энгадену, месту, где немец мог не сдерживать слез, месту, без которого он вовсе отказывался жить, и восторгался его культом кочевника (здесь сердце Алекса екнуло) и манией вечного скольжения в образе некоего зверя моря, превозносил ослепительные пространства Заратустры (вот сокровенная карта Энгадена и тех мест, где бывал Ницше), и его ненависть к городу. Егор явно чувствовал себя каким-то пророком. Да что-то в нем и было такое. Слова улетали вместе с алыми искрами ввысь, волосы вспыхивали и не сгорали, лобастое лицо было красным; затертая замшевая куртка, впрочем, делала его похожим на траппера Дикого Запада, не хватало только ковбойской шляпы; он жестикулировал, словно дирижируя невидимым ансамблем, озирался, вслушиваясь, смотрел в небо. Да, да, он и был местным пророком. Теперь Алексу это совершенно ясно. Вряд ли Местность слышала более вдохновенного оратора.
Хотя, как знать… Ведь случайному человеку, заглянувшему сюда, и о Егоре ничего не будет известно.
Вообще случайный прохожий сочтет эти места довольно скучными, напрасными. Зарастающие поля, овраги, обожженный кирпич, железная спинка кровати, чугунок в траве на месте бывших деревень, жалкие рощицы, сырые мрачные леса, заваленные тушами упавших дерев, непроходимые джунгли серой и черной ольхи с красноватыми от железистой болотной сырости чешуйчатыми, как драконьи шеи, стволами. Перерытые кабанами и пробитые гибкими прутьями лозняка дороги. Мутные речки с топкими берегами в крапиве и хмызнике, носящие хмурые имена: Ржавец, Лосинка, — или вон Свиная (правда, эта река уже вне границ КСР-63). Местность облачная, ясных дней в году не больше двадцати, остальное время дожди, туманы, пасмурность. Над болотами орды комаров. Там сям чернеют гари. Топорщат сучья обугленные сады. Сиротливо торчат столбы без проводов, некоторые, впрочем, спилены по бетонное основание. Даже Алекс, человек тут не случайный, иногда вдруг видел все как есть…
Но Егор всегда видел по-другому.
В береговой топи, говорил он, был залог первозданности: там явно не ступала нога человека.
Овраги — создавали силу Местности: ее контрастность, обилие контактных линий, перепады высот.
Кабанов, перерывающих дороги, — он готов был поставить на довольствие в своем зеленом отряде. А также и панствующих бобров, подгрызающих опоры мостов, городящих плотины и затапливающих луга, ольховые джунгли.
Он славил это позиционное давление, или давление места , декламируя определяющие признаки явления как стихи: «Под влиянием позиционного давления легкоподвижные объекты мигрируют, Менее подвижные меняются, А неспособные к миграции, перемене деградируют и гибнут. Туда им и дорога!»
На пожарищах его веселило обилие иван-чая.
А дырявые ведра, заржавелые скрепы, цепи и никому не нужные замки он называл артефактами минувшей цивилизации.
Даже редкая возможность наблюдать над Местностью звезды наводила его на ассоциацию с Озерной школой в Америке: Эмерсон предлагал демонстрировать звездное небо человечеству раз в сто лет. Зачем? Чтобы повысить его ставки. А облачность прибавляла Местности три яруса или три чина , как на иконостасе. И в первом чине шествовали облака слоистые и слоисто-кучевые (2 км). Во втором — высококучевые (2–6 км). В третьем — перистые (выше 6 км). Но летом, в июне или июле после захода солнца в небе (если оно было ясным) проступали невесомые пеплумы уже высшего чина, столь прозрачные, что сквозь них можно было видеть первые звезды. Это были так называемые серебристые облака (100 км).
…Но кто знает, какие рапсоды и трубадуры жили, ходили здесь до них? Тот же грабор Ларька Плескачевский мог быть поэтом, да и был им. Правда, от его трудов ничего не уцелело, только остатки дряхлых аллей, едва отличимые от наступающего леса: Местностью овладевал другой грабор. На службе у него были все травы и деревья, а также звери и птицы; да и сами друзья: вервьщик, иконник быстрый огненно-рыжий Егор, и его круглолицый смуглый плотный помощник Алекс Анцифер, мирза: будучи математическим дебилом, он выполнял функции писца, вел полевой дневник.
И, проснувшись утром в августовском тумане, затопившем все окрестности и Муравьиную гору по самую маковку, они быстро приходили в себя, несмотря на полночи разглагольствований и возлияний у костра, варили гречневую кашу, заправляли ее топленым маслом, окаменевшим в роднике, пили горчайший чай — Егор был любителем этого допинга, собирали палатку, укладывали рюкзаки и выступали в путь по сонным мокрым травам, осуществляя ночную идею скольжения по мировой линии… И двадцать минут они шагали с каким-то вдохновением. Но это был обычный энтузиазм начала пути. Вскоре он заканчивался. А Мировая линия напитывала кеды и штанины росой, опутывала ноги травами, цеплялась собаками, била жесткокрылыми слепнями в загривки. Иногда они действительно оскальзывались на траве или глине и чертыхались. Мировая линия в ответ процветала в высях синевой и шарахала солнцем. От пота промокали рубашки, рюкзаки оттягивали плечи.
«Все дело в рюкзаках, — бормотал Егор, — слишком много вещей, жратвы. Ницше в окрестностях Энгадена, небось, гулял с палочкой. А его Заратустра так и вовсе был легковейный как пух. Нужно переходить на подножный корм».
Но переходить на подножный корм было поздно. Подпольный комитет Зеленого Грабора захватывал поля, на которых когда-то росла колхозная картошка. А в колхозные времена они действительно иногда брали минимум: хлеб, соль, подсолнечное масло, и варили молодую картошку, делали поджарку из лука. Конечно, можно было и сейчас робинзонить, собирать грибы, ловить рыбу, но тогда у них не оставалось бы времени на КСР-63. Попутно они и грибы собирали, удили рыбу, но грибов могло и не быть, а рыбу Егор ненавидел, отравился однажды хеком — на всю жизнь. Ужение было у них камнем преткновения, — рыбой преткновения, каменной. Алекс был запойный рыбак. Когда они приближались к воде, хотя бы слегка попахивающей рыбой, Алекс делался сам не свой, у него глаза становились как у сомнамбулы, по наблюдению Егора. Да, он любил запах рыбы, и мгновения, когда она трогала губами приманку, затем захватывала ее и топила поплавок — и вдруг возносилась в брызгах, судорожно билась, танцевала в воздухе, а потом трепетала в руке, были для него почти священными. Егор называл его рыбным мистагогом, и это Алексу нравилось больше, чем мирза. Ловить рыбу было интереснее, чем писать. Может, в предыдущей жизни он и был жрецом рыбы. А еще раньше — самой рыбой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: