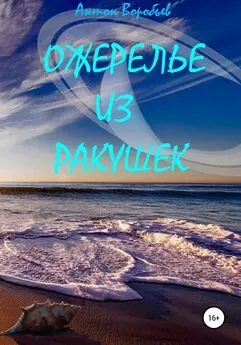Лев Воробьев - В облупленную эпоху
- Название:В облупленную эпоху
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Текст, Книжники
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9953-0189-2, 978-5-7516-1061-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Воробьев - В облупленную эпоху краткое содержание
В этот сборник, третий по счету из составленных Асаром Эппелем для серии «Проза еврейской жизни», вошли рассказы семнадцати современных авторов, разных по возрасту, мироощущению, манере письма. Наряду с Павлом Грушко, Марком Харитоновым, Владимиром Ткаченко в книге присутствуют и менее известные, хотя уже успевшие завоевать признание авторы. На первый взгляд может показаться, что всех их свела под одной обложкой лишь общая тема, однако критерием куда более важным для составителя явилось умение рассказать яркую, заставляющую о многом задуматься, историю.
В облупленную эпоху - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Такова предпоследняя запись в дневнике. Кстати, Виктор, узнав о том, что тесть арестован, немедленно подал на развод. Развели доблестного офицера с дочерью отравителя за пятнадцать минут, хотя она была на четвертом месяце.
Что же произошло за те сто бесконечных дней, которые прошли от декабрьской ночи с помянутым поэтом кандальным звоном дверных цепочек до апрельского утра, когда Евгения Яковлевна и только что вернувшийся дядя Сема услышали по радио: «…Привлеченные по делу группы врачей арестованы без каких-либо законных оснований… Полностью реабилитированы… из-под стражи освобождены»? (Помню, бабушка, набирая неверной рукой номер дяди Семы, бормотала: «Ну вот, ну вот, умница Лаврентий Павлович, разобрался». А совсем скоро я услышал частушку: «Как министр Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков». А потом вышел из доверия Маленков, и ему надавал пинков товарищ Хрущев. А потом…)
Следователь строил могучее здание заговора, выходящего за пределы происков сионизма и международного империализма. Бессонной ночью пришла ему в голову лихая мысль пристегнуть к еврейским отравителям белоэмигрантов. В деле дяди Семы нашлись связи с Алексеем Хохловым — изменником Родины, расстрелянным в 1938 году, бывшим прапорщиком царской гвардии, от которого множество нитей вело — как было со всей очевидностью доказано пятнадцать лет назад — к монархическим кругам эмиграции. Не вызывала сомнений и причастность к этой банде хирурга Шаргородского, вступившего в аморальную связь с вдовой Хохлова. Измученным допросами и мордобоем Шаргородскому и Затуловскому по очереди читали их показания. Илья Борисович не скрыл, что дядя Сема находился в дружеских отношениях с Хохловым. Дядя Сема и сам назвал Хохлова своим другом, причем до того, как увидел протокол допроса Шаргородского, но в память врезалось: Илья дает показания против него. В свой черед Затуловский подтвердил, что Илья Борисович оказывал помощь Лидии Хохловой и ее малолетнему сыну. Шаргородский и сам показал, что ездил к Хохловой в Нарым и поддерживал ее материально, заявил об этом задолго до того, как ему прочли протокол допроса дяди Семы, но запомнил: Семен выдает следователю их (его, Лиды, самого дяди Семы) личное, сокровенное, не могущее быть предметом грязного рассмотрения этих. В сущности, оба вели себя достойно, хотя и не героически. Впрочем, кто знает, где начинался героизм в Лефортовской тюрьме пятьдесят третьего года. Не оболгать коллег — это героизм?
Они встретились у вдовы одного из тех, кто не вернулся. Не поздоровались. Отвели глаза. И с тех пор не разговаривали до самой смерти дяди Семы. Чего было больше в их молчании — угрызений совести или укора, — сказать трудно. Прости они друг друга, легче было б жить, а дяде Семе и умирать. Умирал он долго, от рака легких. Илья Борисович не зашел ни разу. Есть, правда, два свидетельства какого-то подобия их связи. Во-первых, к Затуловским дважды приходила Лида и приносила лекарство, которое, как выяснилось, доставал Илья Борисович через одного чина министерства иностранных дел, чью жену он блестяще прооперировал. Второе свидетельство — последняя запись в альбомчике с разноцветными страницами, сделанная за три дня до того, как дядя Сема окончательно впал в беспамятство. Открывается она вот таким, казалось бы, не относящимся ни к чему определенному сонетом:
Печально я гляжу на календарь —
Он знаменует жизни быстротечность,
Сей инструмент, что строго делит вечность
На равные периоды. Январь
Разбудит разом, звонко, без обмана
Надежду, спящую под белой пеленой,
На новую весну, и новый летний зной,
И новые осенние туманы.
И, сидя перед стопкою листов,
Где спит покой и кроется тревога,
Где теплый дом и дальняя дорога,
К простому выводу прийти готов:
Нет интересней книг под небесами —
Ее мы ежечасно пишем сами.
«Не помню, — писал дядя Сема, — кто из поэтов сказал, что стихотворение — это ткань, растянутая на остриях отдельных, самых главных слов. И жизнь, в сущности, материя, сотканная вокруг самых близких, самых дорогих людей — только вблизи них она сгущается до осязаемости, обретает ценность, сохраняется в памяти. С этими людьми и прощаешься, когда наступает срок. И, уходя, шлешь им привет, свое прощение — и мольбу о встречном прощении. Их хоровод не дает тебе потерять человеческий облик в самую страшную минуту, которая ожидает всех. Рая, Женюра, Алексей, Илья… „Я жду товарища, от Бога в веках дарованного мне“».
Теперь уже поздно, а ведь мог бы я подойти к худому старцу в черном костюме — на свадьбе ли, на похоронах — и показать ему последнюю запись в дневнике дяди Семы.
Вот такая история. Да, у Раи после ареста отца и предательства Виктора был выкидыш, она два года пролежала в психушке. Замуж она не вышла. Похоронив дядю Сему, с матерью не осталась, уехала в Одессу. На письма бывшего мужа не отвечала. Работала в глазной больнице, недавно вышла на пенсию. Живет Раиса Семеновна на Пролетарском бульваре у самого моря, на лето пускает курортников.
Павел Грушко
МЯЧ
Мама усмехнулась:
— Снова! Будто мало у нас книг…
— Это двухтомник Фридриха Бильца, — прищурился на маму отец и добавил, понизив голос: — 1902 года издания!
— Бильца-шмильца… Мальчику нужны новые сандалии.
Отец был врачом в местной больнице, а Бильц, как объяснил он, знаменитый немецкий естественник. Никаких лекарств. Травы, вода, солнце, воздух, паровые ванны.
— Лучшее лекарство, — рассмеялась мама, — бульон из молодой курочки с манными клецками…
Она была родом из Одессы, а там знали толк не только в бульоне с большими плоскими манными клецками. Однако неизменно, что бы мама ни подавала на стол, она приговаривала: «Сегодня дус эсн из нит азой гит ви томэт [1] Еда не так хороша, как всегда ( идиш ).
». Маму звали Мария, папу Ефим, а детское имя сына было Гриша. Он тогда не знал, что еврей. Вокруг были люди с разными лицами и именами, но всего трех видов: мужчины, женщины и дети.
Он был — дети.
Летом городок пышно утопал в зелени, словно хозяином здесь был не он, а окрестный лес, пустивший его погостить. Осенью побуревшую листву, разного кроя, скрадывали дожди, и она некрасиво смерзалась к зиме, которая пушила тихим снегом их дом и участок, и этот снег вкусно скрипел под валенками, а весна заявлялась вся в хрустких наледях и торопливых ручьях. Городок жил при трех речках — Серебрянке, Уче и Воре. В стороне, не очень далеко, лениво плескалось большое водохранилище. Летом стрекозы шебаршили над самым ухом, кузнечики выскакивали прямо перед носом, щенки были препотешные.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
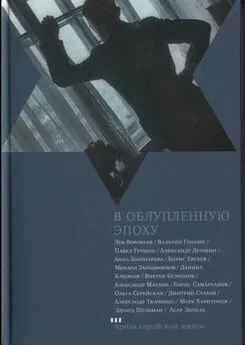






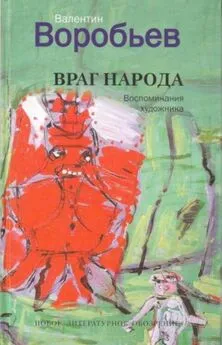
![Дэниел Левитин - Путеводитель по лжи [Критическое мышление в эпоху постправды]](/books/1101191/deniel-levitin-putevoditel-po-lzhi-kriticheskoe-my.webp)