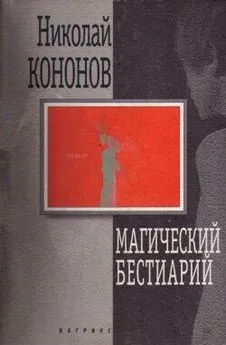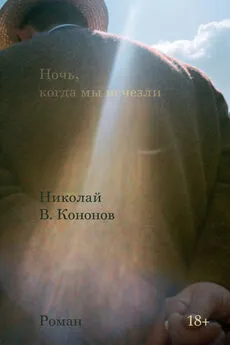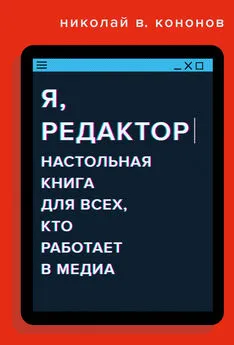Николай Кононов - Магический бестиарий
- Название:Магический бестиарий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:2002
- ISBN:5-264-00774-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Кононов - Магический бестиарий краткое содержание
Ускользающее время, непроизнесенные слова, зыбкость, пронизывающая нынешнее бытие, являются основными, хотя и подспудными темами психологической прозы Николая Кононова.
Действие в произведениях, вошедших в книгу «Магический бестиарий», происходит, как правило, на стыке прошлого и настоящего. Однако его герои пребывают скорее не «в поисках утраченного времени», а в поисках «утраченного себя». Сознавая гибельность своих чувств, охотно отдаются на их волю, ибо понимают, что «эрос и танатос неразделимы».
Магический бестиарий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Да проходи же! Все дома. Давно тебя ждем.
Проходя, я что-то проглотил.
Все наше не менее обильное, чем в первые, вторые и третьи разы, застолье оно пристально снимало на видик: то стоя на стуле, то лежа – с пола, то просто сидя. Чистое феллини.
Я опасливым карасем поглядывал в щучий видеоглаз.
– Да не коси ты, – сказало мне оно, – веди себя нормально. Все путем.
Нагло говоря со мной, годящимся ему в отцы-наставники, на ты.
Я чувствовал себя диктором в прямом эфире. Дрессированная крыса утащила у меня листики с текстом.
Меня к чему-то готовили.
Тезка маму Тому звал по имени – «Тома», а тетю Свету – просто «Ты».
Нагло распоряжаясь ими, оно требовательно заказывало температуру «блюдей», что безропотно и безукоризненно добренькой «Ты» исполнялось при полном и одобрительном попустительстве «Томы». Я все это терпел «не обращая», как говорят в жизненных пьесах, ни малейшего.
Но когда этот вуайяр-панасоник, насытившись, сказал, что хочет снимать нас и дальше, и что мы можем раздеваться, и для начала можем и что-то станцевать, например, поураздетыми, – я назвал его акушерскими щипцами, маточным зеркальцем, грязным томпоном, сраным памперсом и старым тампаксом и дал две затрещины: первую – ему и второю – панасонику. И тут же об этом очень посожалел.
«Тома» и «Ты» превратились в мегер. Как в кино, что из веселого цветного вмиг стало страшным черно-белым.
Они стали кидать в меня опасными предметами сервировки и обидной едой.
И довольно метко.
Порция холодца попала мне в шею.
Я через мгновение был просто персонажем Арчимбольдо – весь из фруктов, овощей и рыбьих хвостов. Но «Ты» и Тома Арчимбольдо не видели никогда, и я не успел им ничего рассказать о нем.
Опозоренный, я ретировался, забыв в прихожей свой замечательный мягкомнущийся италийский лже-Ферре пиджачок. Я стал звонить в захлопнувшуюся дверь и звать его с собой к маме.
Но «Ты» прошипела, что я (список грубых обидных травмирующих прозвищ беспомощного и хуже того, совершенно навеки бесполезного мужчины) могу преспокойно купить его в их торговой точке номер шестьдесят шесть в шестом ряду на городском рынке товарищества «ООО Люцифер».
Что и было мной через день сделано.
Культурная «Ты» поинтересовалась, не завернуть ли мне выгодную покупку.
«Тома», не глядя на меня, курила.
Раздел смежных профессий
Тяжелый фильм
…Все становится историей.
В абсолютном смысле – прошлой, прошедшим временем, бывшим не со мной, бившим не по мне.
Весь лабиринт прошлой жизни я теперь обозреваю сверху, даже пунктиры своих следов, – уютно и отчужденно, будто кончаю жить. Со мной так много всего, что я ничего не могу забрать… Узлов и чемоданов гораздо больше, чем рук. Это какая-то цирковая реприза. Мне, то есть ему, – все трудно.
И уж это мне точно известно.
Ведь я – это он.
И никакой тягомотины.
С этого места – или момента, что почти одно и то же, сюжет может развиваться во множестве направлений, так как по большому счету его, суммарного, нет вовсе, ибо конец в любой раз будет предрешен с одинаковой силой.
И вот в ней-то все дело и состоит.
В ее целенаправленной идиотии.
…Он вообще-то часто и не догадывался о своем существовании среди разнонаправленных векторов автоматизма – точнее, он был не среди них, а, из них. Состоял. А может быть, и был в них.
Лишь иногда ему мнилось, что нечто начинает ему немного мешать. Но, как правило, это длилось недолго. А так – он примечал себя как сгусток табачного дыма. Он – еще немного – и весь развеется по комнате. И, коснувшись своим сизым сумраком тарелки репродуктора, вытечет в распахнутую фрамугу на зеленя палисада. На замкнутый низкими строениями собачий дворик.
Ворох георгинов почему-то не обломлен.
Осенняя одуревшая пчела выбирается задом из темного цветочного устья, как из плохого стихотворенья.
Когда он вернулся с фронта, где, против всех собственных ожиданий, вовсе не погиб, хотя наверняка должен был, абсолютно должен был погибнуть, но не был даже поврежден, в смысле ранен, то на возможной научной карьере он поставил крест, тем более и мать, с которой он жил, как-то за время ожидания его растеряла свою тираническую любовь.
Она перестала его кем-то определенным представлять.
Она как-то примирилась с его наличием.
И, как говорят, она сдала и теперь очевидно иссякала.
А он был здоров и абсолютно цел. Это было почти глупо и даже цинично на фоне увечных, на фоне темного зияния невернувшихся или редких писем от тех, кто остался где-то там, в армии. Они ведь тоже не вернулись к нему. В письмах ничего сказать было нельзя. Да никто и не пытался говорить, то есть прибавлять к тому, что было сказано в глаза. Он только складывал конверты и отвечал открыто, – почтовой карточкой.
Из стопки писем можно было выкладывать географические пасьянсы.
Его товарищи перемещались, меняя номера полевой почты.
Они описывали города, куда попадали, иную природу, словно вкладывали сухую листву и травы в тесные кармашки конвертов.
Порой ему казалось, что он попал в некую среду. И она, испытывая, обтекает его, почти не задевая, почти не смачивая, хотя со стороны это и невозможно себе представить.
Вне газетного гама, вне бравурного радио, тяжелого духа кухни и падающей воды в сортире.
Единственный трофей – “телефункен” с зеленым оком-индикатором – был тоже вовсе не его добычей. Чьей-то. Он честно выменял его на что-то. Отдал на барахолке то, что и не вспоминал, так как того, отданного, было тоже совсем не жаль.
С войны он привез трехгранную стеклянную призму. К одной грани был приклеен прямоугольник – обрывистый берег в верхнем течении Эльбы и черная баржа, навсегда застрявшая в синем створе.
Он и жизнь, окружившую его после возвращения, наблюдал, как эту немецкую картинку за толстым слоем тяжелого оптического стекла.
Его все оставили в покое, и ему порой казалось, что жить можно прекратить в любую минуту, так как дыхание – единственное, что колебало в прямом и переносном смысле его уцелевшее молодое тело, – можно было остановить, лишь приложив волевое усилие.
Но он не пробовал этого сделать, так как знал, что предназначен совсем для иного, уж не для близкой смерти точно. Ведь на фронте его ни разу даже не оцарапало. Только пару раз оглушало волной близкого разрыва и заваливало крошевом темной земли.
Как так случилось?
Ответа не было.
И в бане он испытывал жгучую неловкость, когда тер спину одноруким, безногим и испещренными шрамами – правым и левым соседям по лавке.
Он бы даже предпочел мыться в комнате, дома, как в детстве – в тазу или в корыте, но любопытные соседи, общие плиты, вот он тащит по коридорчику ведро горячей воды, глупо все и т. д.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: