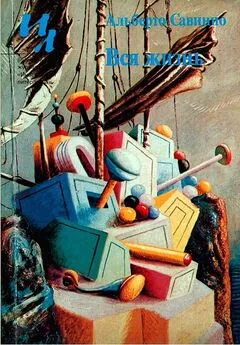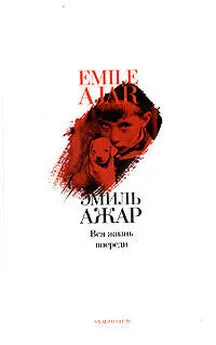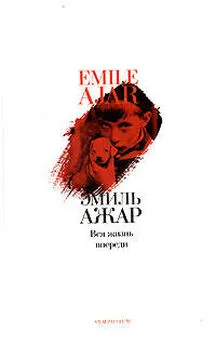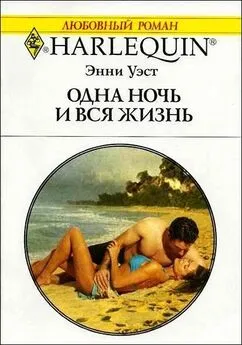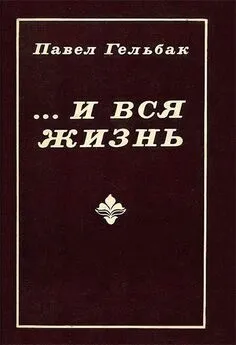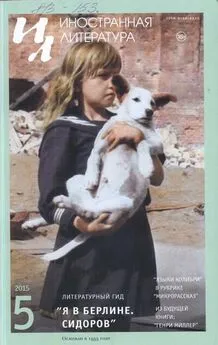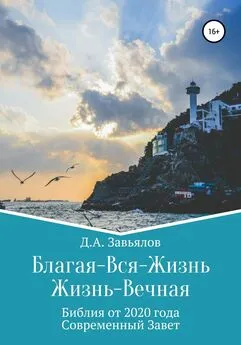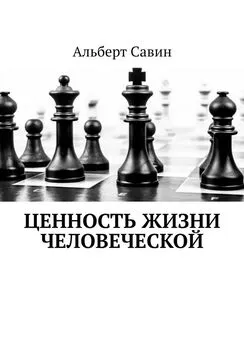Альберто Савинио - Вся жизнь
- Название:Вся жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Известия
- Год:1990
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альберто Савинио - Вся жизнь краткое содержание
В книгу вошли рассказы из сборников разных лет итальянского писателя Альберто Савинио и ряд эссе из книги «Новая энциклопедия», где автор излагает свои глубокие, оригинальные, подчас парадоксальные суждения о явлениях человеческого бытия и культуры.
Вся жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
О причинах, побудивших человека использовать поэтический язык до того, как он изобрел письменность, вы можете спросить у любого актера: он объяснит их лучше, чем я. Он объяснит вам, что, подобно актеру, человек говорил когда-то в другой, более высокой тональности, позволявшей его голосу долетать до самой «галерки», а слову — проникать в глубь сознания слушателя и надолго там задерживаться. Иначе говоря, поэтический язык должен был запечатлеть в памяти то, что заслуживало этого запечатления. Это была своего рода звукопись, помогавшая внушать идею божественного, прививать законы, фиксировать наиболее важные события. Не случайно законы Ликурга [54] Знаменитый законодатель Спарты (IX–VIII вв. до н. э.).
были написаны именно в стихах.
Поэтический язык — это наиболее сжатый и емкий вид речи. Это выборка наиболее подходящих и звучных слов. Это наиболее впечатляющий и запоминающийся выразительный прием. Миллионы итальянцев помнят строку «Ты в путь корабль снаряди и странствовать пустись по миру» [55] Г. Д'Аннунцио. Трагедия «Корабль», пролог (1908).
, но попробуйте переложить ее прозой — и вряд ли о ней еще когда-нибудь вспомнят. Поэтический язык — это способ загрузки словами «трюмов» памяти. Однако он требует подгонки слов под один ранжир и нередко ведет к их искажению [56] Иной раз поэт не останавливается и перед языковой ошибкой: лишь бы не нарушить правила стихосложения. Так, Метастазио в первом действии «Катона в Утике» пишет: Уж боле он не преклонится Пред Римом и Сенатом, при жесте коем Дрожал, бывало, Парфянин и Скиф бледнел. Если бы Метастазио употребил правильную форму: «при жесте коего», то не уложился бы в необходимые одиннадцать слогов стихотворного размера. Зачастую стихотворение оборачивается для поэта прокрустовым ложем. Страшно подумать, сколько поэты не сказали из-за того, что это не вписывалось в стихотворную форму; и наоборот — сколько бесполезного они наговорили только ради того, чтобы соблюсти стихотворный размер; сколько же они наговорили на другой лад, искажая и коверкая, ибо стихотворная строка вынуждала их сказать именно так, а не иначе — как задумывал сам поэт. Хотя, в сущности, эти «маленькие драмы» случаются не так уж и часто, ибо поэт думает не «мыслью», а «стихом» — подобно тому, как художник «помнит образами» — и прислушивается исключительно к этой внутренней музыке. Тем самым мы опять пришли к тому, о чем говорили выше, а именно, что поэт вообще не думает. (Прим. автора.)
. Однажды некто попытался заставить кур нести квадратные яйца, чтобы упростить их упаковку. Поэтические слова сродни квадратным яйцам.
Затем изобрели письменность, которая должна была ознаменовать конец поэтического языка. Ведь слова сохраняются дольше и надежнее на письме, нежели в памяти, — в стихотворной форме, то есть в форме упорядоченных и размеренных фраз, иногда соединенных между собой созвучиями или равносложными словами (вспомните о сочетаниях слов с ударением на третьем слоге от конца в стихах Кардуччи). Ведь письменность не просто сохраняет надежнее, а сохраняет все и без особого труда: даже «Новую науку» Джанбаттисты Вико, даже сочинения Гегеля, даже самые дремучие, самые непролазные опусы.
Переход от устной формы речи к письменной произошел не вдруг, а постепенно. Древние греки, к примеру, перед тем как ввести у себя алфавитное письмо, уже применявшееся к тому времени семитами, пользовались топорной и тяжеловесной силлабической письменностью, отдельные памятники которой обнаружены на Кипре. Еще раньше человек пользовался идеографическим письмом, являющимся в некотором роде письменной или, вернее, рисуночной формой поэтического языка, так как она представляет для зрения тот же предметный образ, что и поэтический язык представляет для слуха. Переход от слуха к зрению также знаменует собой прогресс, совершенный человеком при переходе от устной формы речи к письменной, ибо из двух благородных чувств, зрения и слуха, зрение все же благороднее слуха. «Слух есть чувство низшее по сравнению со зрением, — пишет Поль Гоген в одной из заметок в журнале «Стихи и проза» № XXII за 1900 год. — Слух не в состоянии одновременно воспринимать более одного звука; меж тем как зрение воспринимает и в то же время упрощает все». По поводу общности между поэтическим языком и идеографическим письмом нелишне будет вспомнить, что именно к идеографической форме письма (хоть и усовершенствованной благодаря развитию письменности) вернулся Аполлинер, когда захотел вернуться к изначальным и незамутненным формам поэзии.
Однако важнее всего отметить ту перемену мышления, которую вызвало изобретение письменности. Вместе с письменностью рождается проза. Точнее — рождается мысль. Ибо поэзия не думает. Мысль — это игра сходств и различий. До письменности человек не думал; а если и думал — то образно. Он взвешивал образ в уме, а затем выражал его словами. После изобретения письменности отпадает необходимость выражать представления в поэтической форме. Мысль еще пользуется словом, но пользуется им «насквозь». Мысль уже не внутри слова; не внутри звуковой оболочки слова — она доходит до разума сквозь слово.
Сопоставим два различных психических состояния звучащего поэтического языка и безмолвного языка письменности. Звучащий язык — это язык императивов, абсолютов, догм. Он не учитывает членения мыслей, не допускает сравнений, не развивает интеллект, рождающийся как раз из сравнения.
Малограмотный человек не доверяет слову написанному — мол, все это от лукавого. Он читает его вслух, чтобы ощутить звучание слова, единственную его составную часть, которой он доверяет. Так же ведет себя и ребенок. Какие выводы можно сделать из этого примера? О чем говорит тот факт, что слово настойчиво продолжает сохраняться как звук? О чем говорит тот факт, что многие писатели, почти все писатели, больше того — крупнейшие писатели или, по крайней мере, те, кто считаются таковыми, все еще пользуются словом в его дописьменном виде? Это говорит о том, что они до сих пор не привыкли к слову написанному и безмолвному, к слову — бесцветному вестнику мысли. Это говорит о том, что они все еще не доверяют написанному и беззвучному слову. Это говорит о том, что им все еще неведомо громадное, необычайное значение прозы; значение ровного, горизонтального письма; письма, в котором у слова уже нет ни голоса, ни плоти; в котором слово является лишь средством безмолвной и почти невидимой передачи зловония и благовония мысли и потому предоставляет мыслям полную свободу действий, возможность соединяться и противостоять друг другу, поочередно стимулировать и обогащать друг друга, разветвляться и вновь сливаться в единый поток, сметающий на своем пути вертикальные и обособленные мысли; поэтому они все еще пребывают на уровне тех, кто воспевает слова, и упорствуют в этом своем анахронизме; и свободному течению мыслей, зарождающемуся из безмолвной, аморфной, безымянной и безличной прозы, они противопоставляют слово «красивое» (Д'Аннунцио) или слово «уродливое» (Верга), но при этом сильное и самовластное; слово, которое создает непреодолимое препятствие на пути читательского внимания, будто строгое предостережение, дошедшее до нас с тех времен, когда письменность еще и не родилась — та самая письменность, что смыкает человеку уста и заставляет работать его мозг.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: