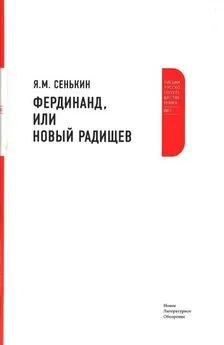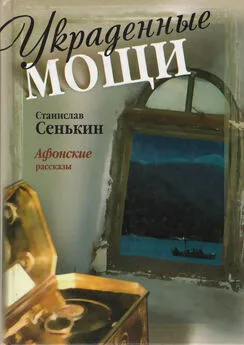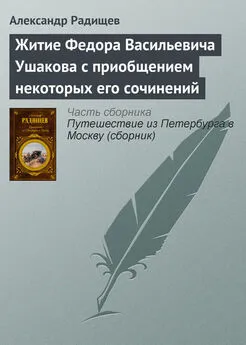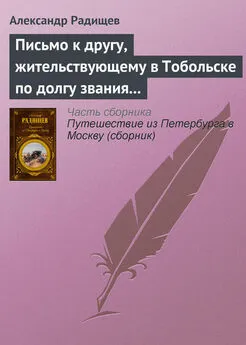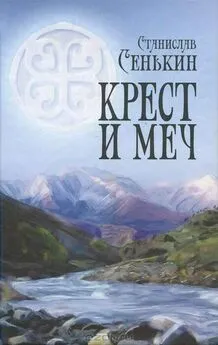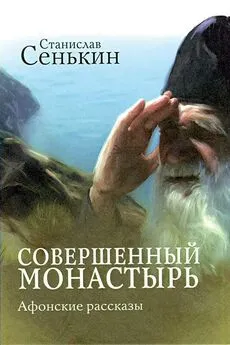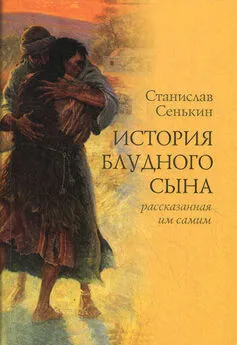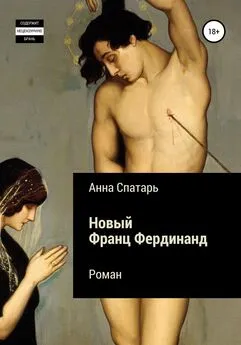Я. Сенькин - Фердинанд, или Новый Радищев
- Название:Фердинанд, или Новый Радищев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-422-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Я. Сенькин - Фердинанд, или Новый Радищев краткое содержание
Кем бы ни был загадочный автор, скрывшийся под псевдонимом Я. М. Сенькин, ему удалось создать поистине гремучую смесь: в небольшом тексте оказались соединены остроумная фальсификация, исторический трактат и взрывная, темпераментная проза, учитывающая всю традицию русских литературных путешествий от «Писем русского путешественника» H. M. Карамзина до поэмы Вен. Ерофеева «Москва-Петушки». Описание путешествия на автомобиле по Псковской области сопровождается фантасмагорическими подробностями современной деревенской жизни, которая предстает перед читателями как мир, населенный сказочными существами.
Однако сказка Сенькина переходит в жесткую сатиру, а сатира приобретает историософский смысл. У автора — зоркий глаз историка, видящий в деревенском макабре навязчивое влияние давно прошедших, но никогда не кончающихся в России эпох.
Фердинанд, или Новый Радищев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:

Стадо это прославилось вскоре своими овцами двух видов: черными без единого белого пятнышка и белыми без единого черного пятна. Пасла Ефановна их у опушки, на дальнем лугу, перегороженном жердями: с одной стороны у нее щипали травку белые овцы, а с другой — черные. Как-то еще в дореволюционные времена подошли к изгороди господа-студенты из дачников, чтобы с молодой пастушкой шуткой перекинуться, так сказать, пофлиртовать с красивой селянкой — читатель помнит, что в те годы молодежь увлекалась «хождением в народ», на чем погорело немало интеллигентов. И здесь тоже не обошлось без конфуза. Студенты приблизились к полянке и увидали, как девица брала белую овцу и легко перебрасывала ее через изгородь. Овца тут же, только коснувшись земли, становилась черной, да кричала при этом тонким человеческим голосом: «Не надо, Олё-на, не надо!» Один студент кинул в сторону новоявленной овцы-трансформера очищенную от коры ореховую палочку, которую дотоле вертел в руках, и палочка эта, даже не долетев до земли, тотчас почернела. В ужасе, несмотря на всю свою базаровщину и нигилизм, студенты бросились прочь, а Алена и овцы дружно хохотали им вслед…
После этого в деревню приехал сам исправник Елевферий Васильевич Флорианский и лично препроводил Алену-овцефилку в Порхов на дознание. Оказывается, среди студентов оказался доносчик, который и стукнул, что Алена «через волшебство оборачивается козою и овцою». Дело дошло до столицы, и оттуда прислали указ, которым «требовано, чтоб девка Алена вышеозначенное волшебное искусство показала и чрез оное при присутствии определенных к тому судей господ Флорианского, Рафаэльского и Свенцицкого в овцу или козу (по ее желанию) оборотилась». На это испытание в Порхов Академия наук командировала академика Супова и приват-доцента Борщаговского, но эксперимент не состоялся — арестантка не захотела, как писал поэт Бродский, «лечь мутоном на алтарь отечественной науки» и на венике ушла через печную трубу, чтобы скрыться в лесах, позднее недаром названных «партизанским краем». Так, под влиянием негативных практик и отрицательного воздействия социальной среды из сельской пастушки и выросла знаменитая ведьма и разбойница Ефановна. Впрочем, думаю, что здесь, помимо вышеописанных обстоятельств, дали знать о себе гены разбойного отца-шатуна и матери-побродяжки… [51]
«Подставу» у моста через Севку Ефановна и ее сподвижники [52]делали знатную: спускается мимошедший экипаж в овраг, кучер вожжи натягивает и видит, что у моста лежит раненая, вся в крови, старушка с клюкой, а возле заливается слезами малолетняя внучка в красной шапочке, тут же отчаянно и жалобно подвывает собака Жучка. Сердобольный путник останавливает экипаж, пистолет откладывает, исполненный человеколюбия склоняется над старухой и тянет руку утешения к ребенку… И тут старушка эта хилая (как здесь говорят — «полфунта с пёрьем») сбрасывает повязку, пропитанную свекольным соком, вскакивает как ни в чем не бывало, из клюки вырывает запрятанный в ней острый длинный стилет и мочит доверчивого простофилю-путника! А внучка — не девочка в шапочке вовсе, а страшный, уродливый карлик-садист по имени Жузла — петлей из рояльной струны сдергивает с облучка и в мгновение ока сноровисто душит лакея. Кучер же валяется на земле, хрипит — ему в одно мгновение перегрызла горло кинувшаяся на него «Жучка» — огромная, отвратильная африканская гиена, неведомо как попавшая в псковские края и прирученная Ефановной. Дело сделано!
Потом, правда, жандармы место это поганое очистили, мерзостную «Жучку» пристрелили, а Ефановну сослали в Нерчинск на поселение. За ней все время тщательно следили, чтобы — не дай Бог — она не оборотилась в козу или овцу и не скрылась среди пасущихся у дороге овнов и козлищ. Чтобы злодейка не улетела, ее на ночь сажали в палату без печки. В Нерчинске, как догадывается читатель, Ефановна, конечно, ушла в степи под видом, говорят, то ли сайгака, то ли изюбра. Возможно, ее позже и убил Дерсу Узала. Сообщник ее Жузла тоже избежал эшафота, причем, признаем, весьма оригинальным способом. Привезли его в Порхов, посадили в небольшую железную клетку, а он возьми да попроси воды. Подали ему через решетку малый ковшик с водой. Злодей тотчас же ковшик на пол поставил, сложил ладошки лодочкой, нырнул в воду и был таков — выплыл у дальнего берега Шелони… [53]
Но в годы перестройки, когда советская власть стала заметно слабеть и дряхлеть, шалости на дороге возобновились — видно, не иначе разбойные инстинкты местных жителей в годину смуты вновь пробудились. Пару раз грабанули тут путников, и тоже весьма хитрым способом: съезжает потихоньку к мосту (дорога, как всегда, здесь бывает, согласно местному наречию, «горазд плоха») «жигуленок» с дачниками, и путешественники видят, что у самого моста, на сырой земле лежит будто дивная райская бабочка, раскрытый японский зонтик — вещь тогда редкая и желанная. Наверное, случайно из проехавшей накануне машины выпал сей восточный сувенир. Простодушный дачник желает его подобрать для вручения любезной супруге, сидящей рядом. Он останавливает машину, выходит, наклоняется к зонтику, а зонтик этот вдруг мгновенно складывается, а за ним — жуткая морда уркана с огромным буздыганом, который и обрушивается на прикрытый лишь панамкой череп путника!
Словом, дорога здесь всегда пуста, прохожих на ней будто и вовсе нет, дай Бог проедут три-четыре машины в день, да и то они пронесутся опрометью мимо дурного места, поднимая желтую пыль… В прошлом году рано утром, возвращаясь в Петербург, я и сам тут тоже сильно перенервничал. Почти на дне оврага нагнал я странную повозку: рыжая лошадь, в нее запряженная, медленно плелась по дороге произвольными зигзагами, вожжи волочились по земле, а в телеге спали мужик и баба, свеся головы по разные стороны. Сигналю звуком и светом, двигателем реву — все трое никак не реагируют на мои шумные сигналы. Не иначе, с гулянки или похорон едут, а может, и мертвы? Дорога узка — никак мне повозку не объехать. В таком походном порядке наша группа спускается почти к самому мосту через Севку. И тут меня пронзает мысль: «Мама родная! Хитро придумано, сейчас нас будут брать и мочить!» Правда, на этот раз обошлось: лошадь подалась вправо, тут я через лужу обогнал проклятый экипаж, да как и дунул что есть мочи в гору, к Сорокину, от греха подальше.
Вокруг расстилается бывший партизанский край — болота, непроходимые, дремучие, глухие леса. И названия деревень тут под стать: Глуховка, Большие и Малые Гнилки, две Черные Грязи, Загрязье, Грязивец, Грязищи, Мхи, Красное (есть и Черное, Горькое) Болото, Лютые Болоты, Заболотье, Ямищи и, наконец, Засосье. Здесь раскинулись места давних боев партизан с карателями. Но бои эти не были беспрерывными, и не часто герои (по словам автора статьи в местной газете) «бросались вперед, на бегу поливая свинцом удиравших фашистских наглецов». Если посмотреть опубликованный в «Псковских хрониках» [54]« Внутренний распорядок дня партизанского отряда» военных времен, то окажется, что после Обеда (17.00–18.00) партизаны только и делали, что отдыхали:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: