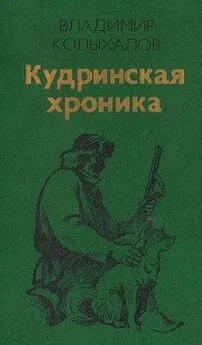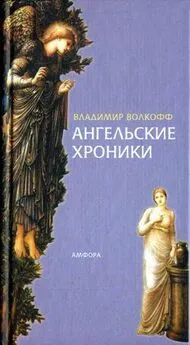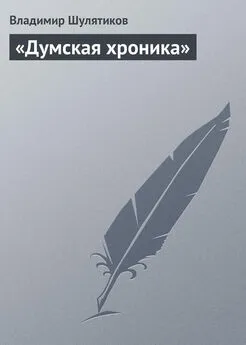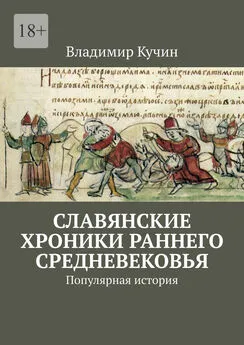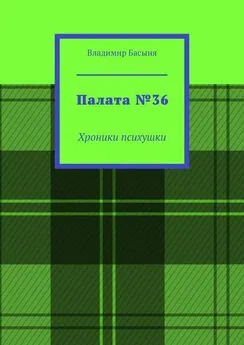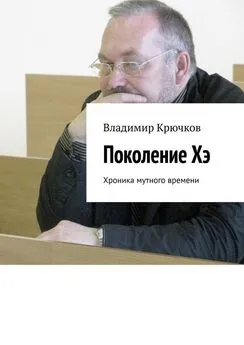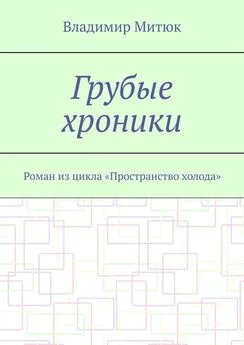Владимир Колыхалов - Кудринская хроника
- Название:Кудринская хроника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Западно-Сибирское книжное издательство
- Год:1984
- Город:Новосибирск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Колыхалов - Кудринская хроника краткое содержание
Книга прозы, посвященная труженикам Среднего Приобья и пребыванию автора в Приамурье.
В новой книге Владимир Колыхалов остается верен излюбленной своей тематике: взаимоотношения человека и природы, живописание народной жизни, пейзажи Приамурья и родного ему Обского Севера. Вместе с тем, в «Кудринской хронике» писатель воссоздает запоминающиеся образы нефтедобытчиков, партийных работников.
Кудринская хроника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ветер мел снег с завыванием, с надсадными, ухающими порывами. Хрисанф Мефодьевич представил, как выстудится у него в зимовье к утру. Придется вставать и подкидывать в печь, а то его сивые волосы, чего доброго, облепит иней.
Он носил дрова в избушку большими охапками. Мелко наколотые шли на растопку, чураки покрупнее — для долгого, медленного горения. Таскал дрова и думал, что вот теперь он надолго остался один с Шарко и Соловым. Да не привыкать! Обернуться бы только с промыслом, как в прежние годы он оборачивался — из лучших не выходил…
Промысловика влечет в тайгу не нажива, а страсть. Ведь недаром считается охота пуще неволи! К исходу дня охотник с ног валится от усталости, хватает горстями снег, но идет — продирается зарослями, ломит сквозь чащу, распутывает следы, пока — не кончится гон и не прогремит меткий выстрел. Нередко гон длится до самых потемок. Зимою в тайге ночь падает вороном, леденит тишиной и морозом. Застигнутый теменью далеко от жилья — разжигай поскорее костер, крутись на пихтовой подстилке, обарывай сон, дожидайся рассвета…
Нет, не сладкая у охотника-промысловика жизнь! С ней свыкнуться надо.
Савушкин смолоду приноравливался к такой скитальческой жизни, нередко увязывался за добрым тунгусом Кириллом Тагаевым, и тот парня не прогонял — натаскивал, как натаскивают пытливую собаку. Савушкин входил в понимание, и быть бы ему уже тогда звероловом и зверобоем, но женился он рано на пригожей девахе Марье, и жена затянула его работать в пекарню — тестомесом и пекарем. Началось с неудач: из-за подмоченной, комковатой муки дали они тяжелую выпечку. Буханки потрескались, сверху вроде поджаренные, а внутри — клёклые, непропеченные. Ты хоть что с ними делай, а они, буханки-то, все равно такими останутся. Марья заплакала, он дверь на крючок запер, никого не пускает в пекарню: стыдно такой хлебушко людям показывать. А в двери стучат, требуют хлеба хоть там какого, потому что пора горячая, покосная — с солнцем вставали колхозники и на луга уходили… Люди им посочувствовали (их ли разве вина, коли мука такая!) и всю «тяжелую выпечку» разобрали. А потом ладно дело пошло. По две квашни он вымешивал, по сто девять булок за день выпекал со своей женой Марьей. И в этой новой работе нашел Хрисанф Мефодьевич утешение, радость. А тунгусу Тагаеву так сказал:
— Ты меня, друг Кирилл, потом не забудь! Тесто месить надоест — приду к тебе, и ты наставишь меня в охотничьих-то делах. Хочу все же я охотничье ремесло через тебя до конца постичь.
И тунгус отвечал:
— Ну, паря! Надо будет — найдешь меня. Людей расспросишь, и они скажут, где я. Но торопись! Видишь — старею…
Жил тогда Савушкин не в Кудрине, а в Шерстобитове, в родной деревне своей. Хлебы выпекали они с Марьей румяные, пышные — подовые булки. В ту пору тут деревень было много — по речкам и близ озер. И везде говорили о пекарях Савушкиных с похвалой, угощали детей шерстобитовским хлебом, как будто медовыми пряниками. И ликовали, возвышались души Хрисанфа и Марьи оттого, что дарят они великую радость людям. Воистину — хлеб дар земной! Искони всяк человек на земле был сыт и пьян хлебом. Хрисанф Мефодьевич и нынче нередко говорит:
— Хлеба ни куска, так и в тереме тоска. Хлеба край, так и под елью рай!
Возможно, что и остался бы Савушкин хлебопеком, но заболела Марья, увезли ее на операцию в Парамоновку — районный центр. Это нежданное горе повергло Хрисанфа Мефодьевича в тоску. Придет на работу — в глазах темно, будто на окошки кто черные занавески накинул. И дрова в большой русской печи уж трещали невесело. Пошел Савушкин челом бить своему председателю колхозному. Понял тот мужика — отпустил в пастухи. Замена нашлась, слава богу, и общее дело не пострадало. И хотя Марья его вернулась из больницы поправившейся, но и она не вернулась больше к пекарским делам…
Шерстобитовские скот пасли в лесу, по таежным болотинам, по кулижкам, потому что лугов по Чузику, можно сказать, и нет, а какие были — выкашивались подчистую. Если вспомнить, то лучше других и старательней косил Юлик Гойко, поляк: под каждым кустом все до травинки подберет, в копна уложит. Происходил Юлик Гойко из ссыльных поляков, еще при царе сюда изгнанных. Большой трудолюб он был. А теперь уже стар, ему где-то за семьдесят. Так и остался жить один в опустевшем Шерстобитове, никуда оттуда уезжать не желает.
Тогда Савушкин рад был, что снова соприкоснулся с лесом, тайгой. А тайга человека вольно-невольно настраивает на охотничий лад, заставляет вместе с котомкой прихватывать и ружье. От медведя, к примеру, палкой не отобьешься. И птицу на пропитание без ружья не возьмешь.
А медведи шалили в те годы страшное дело как. По весне раз сломали хребты пяти нетелям. Савушкин обозлился и, дождавшись осени, наставил петель, и попалось ему тогда четыре медведя. Содрал он с них шкуры, взял мясо и сало и рассчитался как бы за причиненный урон колхозному стаду.
По весне Савушкин-пастух брал утку, по осени тоже утку да еще боровую дичь. Много в ту пору было тут этой живности, все добывали на пропитание себе, кто не ленился. Вольно, просторно жилось Хрисанфу Мефодьевичу. Это не в четырех стенах у горячей печи с утра до ночи толкаться. Совсем на душе у него посветлело: смотрит на мир и радуется. Охота! Как в омут тянула она мужика, сладким напевом его завораживала. Изредка попадался ему на пути тунгус Тагаев. Подолгу просиживали они у костра за ухой или чаем, беседовали.
— Ты, Хрисанфа, не мешкай давай, — подзадоривал Савушкина старый Кирилл. — Нынче шишка в урмане, в кедровом острове, богатая уродится, белки и всякого зверя невпроворот будет. Смекай! Кедровый остров — большой, нетронутый, есть где разбежаться.
Зимою приноровился Хрисанф Мефодьевич в тайге пушнину стрелять, капканы освоил и плашки, медвежьи берлоги ломал. А май подойдет — опять на коня да за пастушеский кнут.
Наладилась жизнь, устоялась. Марья тоже в колхозе работает и дома хозяйство ведет. И ни с какой стороны мрачных туч вроде и не должно было на них нанести. Ан большое несчастье не обошло их семью…
Отца Хрисанфа Мефодьевича крепко потрепала первая мировая война, но он без работы тоже не жил — сани ладил в артели, чинил в хомутовке сбрую. А в свободное время до страсти любил рыбачить. Как-то весной, в сороковом году, отпросился он у председателя сходить на таежное озеро, карасевое, а было то озеро далеконько, у болот, под самой деревней Тигровкой, за которой уже начинались иные земли — барабинские. Старик прихватил с собой сеть, сухарей, сала свиного и соли полпуда — рыбу присаливать. Хрисанф Мефодьевич погнал стадо. С ним и отец пошел.
В низинах, по мокрым местам, вовсю пробивалась молодая трава. Уже опушились листочками смородина и черемуха. Дни стояли игривые по-весеннему. Солнце доедало последний снег по логам и овражкам, округа звенела ручьями, будто кто-то невидимый бегал с огромною связкой ключей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: